Рец. на Колеров М.А. Археология русского политического идеализма: 1900-1927. Очерки и документы. М., 2018.
 Сборник статей Модеста Колерова 2018 года «Археология русского политического идеализма. 1900–1927. Очерки и документы»[1] явно выделяется из целого ряда других книг этого автора, которых появилось достаточно много в последние годы. Колеров – удивительно плодовитый писатель, к тому же он еще также издатель, и каждый год на прилавки книжных магазинов вываливается немалое количество книг в твердой обложке, так или иначе имеющих к нему отношение: либо им составленных, либо им написанных, либо им подготовленных к изданию.
Сборник статей Модеста Колерова 2018 года «Археология русского политического идеализма. 1900–1927. Очерки и документы»[1] явно выделяется из целого ряда других книг этого автора, которых появилось достаточно много в последние годы. Колеров – удивительно плодовитый писатель, к тому же он еще также издатель, и каждый год на прилавки книжных магазинов вываливается немалое количество книг в твердой обложке, так или иначе имеющих к нему отношение: либо им составленных, либо им написанных, либо им подготовленных к изданию.
Однако данный сборник отличается от прочих: отличается в первую очередь внешне – широкий формат, темно-зеленый фон обложки, на лицевой стороне слева, вверху – оттиск картины. Наведя нужные справки у образованных людей, я смог узнать, что перед нами фотографическое изображение картины художника В.Е. Маковского «Письмо» 1883 года. Это полотно было написано за семнадцать лет до начала того периода, который рассматривается в книге, и вроде бы оно не должно иметь к ее содержанию прямого отношения. Чем же тогда объясняется выбор этой картины для обложки, несомненно, согласованный и утвержденный автором книги? Ответ на этот вопрос, полагаю, позволит нам приблизиться к пониманию смысла всего сборника, явно поворотного для идейной судьбы самого историка.
Маковский запечатлел на картине сидящего в своей комнате гимназического учителя или же чиновника, который в отчаянии приложил правую руку ко лбу, а левой опирается на письменный стол. Перед ним – распечатанное письмо, которое, как несложно предположить, и привело его в столь опечаленное состояние. Можно только догадываться, что содержалось в том письме, носило оно личный характер, или же в нем говорилось что-то о судьбе товарища, выбравшего, скажем, путь профессионального революционера. Художественный эффект, создаваемый этой картиной, обусловлен контрастом двух деталей – подчеркнуто неформальной обстановкой довольно бедной квартиры интеллигента-идеалиста и его форменным мундиром. Создается впечатление, что герой еще не успел переодеться, зайдя в свой дом и наскоро распечатав письмо, полученное от, вероятно, очень близкого для него человека. Кажется, что письмо выбило из колеи ответственного и исполнительного государственного служащего, который вынужден облачаться в форму, глубоко чуждую его внутреннему содержанию.
Есть и еще один важный момент, который, возможно, и сыграл главную роль в выборе именно этой картины для обложки сборника. Герой картины удивительно похож на молодого Петра Струве, одного из основных персонажей статей Колерова, вошедших в сборник: продолговатое лицо, длинная бородка, сухощавая фигура, не хватает только знаменитого пенсне. Разумеется, Маковский не мог, создавая свою картину, представить в воображении будущего политического вождя русского идеализма, которому в 1883 году было всего 13 лет. Но, думаю, от издателей сборника портретное сходство героя картины с главным объектом интеллектуальных расследований Колерова не ускользнуло: выбором картины для обложки они хотели передать читателю какое-то смысловое сообщение, касающееся именно Струве.
Из 26 материалов книги фигуре Петра Струве так или иначе посвящены 10, то есть примерно треть. Это и статьи, прямо рассказывающие о тех или иных эпизодах жизни автора «Великой России», и письма, обращенные к нему, и, наконец, обнаруженные Колеровым и впервые обнародованные им ранее тексты самого философа.
Струве, конечно, главный герой этой книги. Но Струве и в целом главный герой научных исканий Колерова в течение его всей уже довольно долгой исследовательской судьбы. Как историк русской мысли, Модест Алексеевич получил известность еще в годы перестройки как автор примечаний (вместе с Н.С. Плотниковым и А. Келли) к первому (и впервые откомментированному) изданию в Советском Союзе сборников «Вехи» и «Из глубины»[2]. Затем он же выпустил уже в издаваемой им самим серии первый сборник знаменитой философской трилогии «Проблемы идеализма» (1902 г.), предварив это издание блестящей монографией об истории и общественном контексте этого издания[3], которую мне уже доводилось рецензировать[4].
В итоге, Колеров стал, наверное, наиболее авторитетным специалистом по струвизму и «веховству» в нашем Отечестве[5]. Однако в отличие от многих других историков, он не ограничивался лишь исследовательской работой и явно стремился извлечь из своих разысканий какой-то актуальный урок, какой-то живой политический смысл. Долгое время Колеров считался либеральным радикалом; казалось, помимо чисто историографического интереса к прошлому отечественной мысли, его влечет стремление подвергнуть ревизии наследие русского философского идеализма, обнаружив во многих его именитых и авторитетных представителях тех же революционных интеллигентов с не изжитыми до конца социалистическими симпатиями. Сам Модест Алексеевич являлся тогда одним из идейных вождей и властителей дум молодых либералов – восьмидесятников, главной политической чертой которых была ориентация на Чубайса. С кем был Анатолий Чубайс, с тем были и они[6]. Таким образом, Струве того времени в контексте исследований Колерова не мог не восприниматься как своего рода предшественник Чубайса, а Чубайс, соответственно, виделся новым Струве. И как Струве, согласно выводам историка, постоянно был окружен разного рода «розовыми» Мережковскими, Франками и Бердяевыми, точно так же Чубайс, по мнению либеральных радикалов находился в столь же ненадежном и опасном окружении разного рода «розоватых» Явлинских или Гозманов.
Из историографии очень сложно вычеркнуть весь план аллюзий. В прошлом мы ищем отражения наших текущих современных проблем. В персонажах истории мы хотим разглядеть нас сегодняшних. И в этом смысле нет ничего незаконного в том, чтобы пытаться разглядеть в Чубайсе черты Струве или Витте, тем самым, за счет сравнения с наших современников с героями минувших дней, расширив наше представление и о прошлом, и о настоящем.
Однако в нулевые годы с Колеровым что-то произошло, и он не просто перешел на патриотические позиции, к которым при всем своем либерализме он всегда склонялся, но еще и развернулся на 180 градусов в социальном вопросе, в вопросе о левой и правой идеях. От его прежних право-либеральных увлечений не осталось и следа; напротив, теперь он стал подвергать жесткому осуждению все то консервативное, правое и, можно сказать, «белое», что мог обнаружить в истории русской мысли. Упорные «белогвардейцы стали для него вольными или невольными пособниками разного рода интервентов, то есть предателями своего Отечества, Николай II – политиком, проигравшим свою страну[7], а большевики, соответственно, объективными спасителями своего Отечества. Колеров никогда не доводил своей новой точки зрения до каких-то совсем окончательных и безапелляционных выводов, останавливаясь буквально в полшаге от того, чтобы занять ту же позицию, на которой стоит, скажем, Изборский клуб или газета «Завтра». Но смысл его идейной эволюции объективно был ровно такой же, что и у А.И. Фурсова или М.В. Леонтьева – от жесткого ельцинизма как проекта правой диктатуры до того, что можно было бы назвать «национал-большевизмом», представлением о спасительной роли коммунистов в условиях гражданской смуты XX века.
Нынешний сборник – это, конечно, своеобразное выяснение отношений с любимым героем, то есть конкретно с Петром Струве. В общем, главное, что есть в книге – это указание на множество теоретических или практических слабостей этого общественного деятеля. Он, как можно судить на основании материалов книги, поспешно отрекся от опыта германского государственного капитализма, возложил слишком большие, неоправданно большие надежды на союз России с Англией, оказался соблазнен мечтою о разрушении Австро-Венгерской и Османской империй; наконец, явился довольно неудачливым издателем, и даже его единственно успешный опыт редактирования – руководство журналом «Русская мысль» – был омрачен скандалом с отвергнутым им романом «Петербург» Андрея Белого. Впрочем, столь же не чуток он оказался в эмиграции и к Бунину, и к Цветаевой.
Все это, впрочем, лишь дополнительные подробности к главному провалу «политического идеализма» Струве – его неспособности оценить и признать правду его, вероятно, самого способного и самого глубокого (по мнению Колерова, разумеется) ученика – Николая Устрялова.

Из всех 26 статей сборника статья о «власти и жертве Николая Устрялова» (как сказано в ее названии) выделяется и своим объемом, и своей концептуальной значимостью[8]. Собственно, этот текст и есть смысловая сердцевина книги. Описывая спор ученика (Устрялова) – с его учителем (Струве), Колеров без оговорок выбирает сторону первого: Устрялов для него не просто подлинный наследник «веховских» интуиций самого Струве, он – истинный протагонист русского политического идеализма. «С тюремного фото Устрялова в вечность смотрит человек, по-прежнему имеющий идейную власть <…> – пишет Колеров. – Это власть поступка. Может быть, власть личной победы русского интеллигента тогда, когда «сдача и гибель советского интеллигента» начала звучать как едва ли не законный художественный жест»[9]. И далее Колеров дает понять, что в отличие от всех иных претендентов в идейные вожди Устрялов если и не преуспел в организационном смысле, то выиграл в «большой истории», «выжил как индивидуальность, присвоил наследие и транслировал его, рассорившись почти со всеми, кто либо сразу же, заранее продался большевикам (“сменовеховцы”), либо сделал это позже (“евразийцы”), либо мгновенно маргинализировался в эмиграции (“веховцы”), потеряв лицо в приспособлении своего символического капитала в интересах правомонархических партийных сект»[10].
Увы, если уж находить у Колерова крупные недостатки, то главный из них – вычурность языка, особенно заметная в тех случаях, когда он хочет кого-то в чем-то уличить и обвинить. Что такое «приспособление символического капитала в интересах сект» понять довольно затруднительно, как и разобраться, чем это «приспособление символического капитала» отличается от тактического союза, идейного компромисса или же политического альянса. Но это все можно отставить в сторону и согласиться с Колеровым в главном: если судить беспристрастно, отметая свои собственные симпатии и антипатии, в споре Струве с Устряловым, последний, конечно, выглядит гораздо убедительнее. В том смысле, что именно Струве, отказавшись следовать за национал-большевизмом Устрялова, выбрав дорогу «белого активизма», фактически пошел против своих же собственных слов декабря 1919 года, которые безжалостно фиксирует Устрялов, а вслед за ним и Колеров: «Если бы большевизм, как некогда французский якобинизм, объединял и сплачивал Россию, а не разлагал и разрушал ее, русские патриоты, каковы бы ни были их воззрения на внутренние вопросы, их политические и социальные симпатии, нашли бы пути соглашения с большевизмом»[11]. Устрялов и Колеров, что называется, хватают Струве за язык и предъявляют ему в общем справедливые обвинения в идейной непоследовательности, в «бессилии в пределах его политической философии обосновать отвержение большевизма образца 1920 года»[12].
Струве ничего не мог ответить внятного Устрялову ни публично, ни в частной переписке, и, я думаю, читатель этих строк уже понял, что столь похожий на лидера «веховцев» отчаявшийся гимназический учитель на картине Маковского – это (в контексте замысла издателей сборника) ничто иное, как намек на Струве, как будто в отчаянии читающего письмо к нему Устрялова и не находящего нужных слов для убедительного опровержения его доводов.
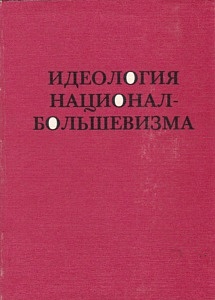 Найдем ли эти слова мы? Устрялов – действительно, мерцающая странным светом фигура, увлекающая очень разных и очень непохожих друг на друга людей. Еще давным-давно, осенью 1990 года, у нас на кафедре истории русской философии философского факультета МГУ происходила раздача книг издательства YMCA-Press. Однокашники быстро расхватали книги отца Георгия Флоровского, Г.П. Федотова, В.В. Розанова и т.д. Мне, как сейчас помню, достались книги о. В. Зеньковского и почти никому не нужные сборник «Из-под глыб» и книжка с однотонно-алой обложкой тогда мало кому известного автора – М.С. Агурского, на которой стояло название «Идеология национал-большевизма»[13]. Я прочел ее за одну ночь, не отрываясь. Впечатление от книги было фантастическое. Прежде всего достойным изумления, в условиях перестроечной публицистической истеричности, была встреча с автором, который, не симпатизируя самому описываемому феномену «национал-большевизма», мог рассуждать о нем в подчеркнуто нейтральном тоне, без ненужных оценочных суждений, без напыщенной антитоталитарной идейности. При этом книга отнюдь не представляла собой апологии «устряловщины» и национал-большевизма: в предисловии сам Агурский говорил, что взгляды лично симпатичного ему харбинского мыслителя на тоталитаризм вызывают у него «отвращение»[14].
Найдем ли эти слова мы? Устрялов – действительно, мерцающая странным светом фигура, увлекающая очень разных и очень непохожих друг на друга людей. Еще давным-давно, осенью 1990 года, у нас на кафедре истории русской философии философского факультета МГУ происходила раздача книг издательства YMCA-Press. Однокашники быстро расхватали книги отца Георгия Флоровского, Г.П. Федотова, В.В. Розанова и т.д. Мне, как сейчас помню, достались книги о. В. Зеньковского и почти никому не нужные сборник «Из-под глыб» и книжка с однотонно-алой обложкой тогда мало кому известного автора – М.С. Агурского, на которой стояло название «Идеология национал-большевизма»[13]. Я прочел ее за одну ночь, не отрываясь. Впечатление от книги было фантастическое. Прежде всего достойным изумления, в условиях перестроечной публицистической истеричности, была встреча с автором, который, не симпатизируя самому описываемому феномену «национал-большевизма», мог рассуждать о нем в подчеркнуто нейтральном тоне, без ненужных оценочных суждений, без напыщенной антитоталитарной идейности. При этом книга отнюдь не представляла собой апологии «устряловщины» и национал-большевизма: в предисловии сам Агурский говорил, что взгляды лично симпатичного ему харбинского мыслителя на тоталитаризм вызывают у него «отвращение»[14].
Откровенно говоря, там чувствовалось даже нечто большее, чем «отвращение». В изданной YMCA-Press книге перед нами представала целая панорама мощнейшего течения русской культуры и русской мысли, и в этой панораме Устрялов был лишь наиболее заметной фигурой. Причем из отстраненно, принципиально холодного рассказа Агурского становилось ясно, что почти все лучшее, все наиболее талантливое в русской культуре так или иначе склонялось к «национал-большевизму», и, более того, «национал-большевизм» оставался главным идейным соблазном того времени, и состоял он в готовности отмеченных умом и талантом русских людей склонить голову перед победителями, признании их жизненной силы, их харизмы в качестве высшей ценности, последней и окончательной социальной правды. Читатель легко вообразит, как это могло читаться в конце 1990 года, когда бессилие центральной власти справиться с процессом распада государства становилось все более наглядным? Понятно, почему книгу Агурского зачитали до дыр будущие поклонники Дугина и Лимонова, почему именно после знакомства с этим исследованием, когда работ самого Устрялова еще никто не держал в руках, в России возникла национал-большевистская партия, до сих пор являющаяся одной из мощных сил русской несистемной оппозиции, даже после смерти в 2020 году своего легендарного основателя.
Потом уже в 1990-е годы произошла моя вторая встреча с Устряловым, не менее парадоксальная и вновь опосредованная неожиданной рецепцией его идей в тексте в принципе либерально настроенного автора. После распада Союза, на пепелище империи, критически мыслящие интеллигенты попытались подвергнуть ревизии штампы либеральной пропаганды и для этих целей составили 4-томный сборник «Иное» (1995 г.) с прямым вызовом перестроечному «Иному не дано». Инициатор этого проекта С.Б. Чернышев выступил на его страницах с большим эссе «Кальдера Россия», которое было посвящено именно Н.В. Устрялову и его трагическому возвращению на родину, завершившемуся гибелью в огне сталинского террора[15].
Агурский оборвал свою хронику «национализации» большевизма 1927 годом (отметим, ровно тем же годом помечена и нижняя граница изысканий Колерова в рассматриваемом нами сборнике). Чернышев сфокусировал свое внимание на оказавшихся в его распоряжении письмах Устрялова Г.Н. Дикому, написанных им незадолго до возвращения на родину в 1935 году. И Чернышев, и Колеров отнеслись к книге Агурского с заметной отстраненностью: Чернышеву не хватило в «Идеологии национал-большевизма» психологической глубины, проникновения в самую суть переживаний главного героя исследования, Колеров посчитал, что Агурский неоправданно широко подходит к типологии «национал-большевизма» (отметим, что в этом широте взгляда, на мой взгляд, и состояла публицистическая сила этой книги: автор «Идеологии национал-большевизма» описывает это течение как стремительный идейный поток, который не могли остановить ни деятели эмиграции, ни вожди большевизма). И для Чернышева, и для Колерова Устрялов представал героем-одиночкой, в своей отчужденности от политической конъюнктуры оказавшимся способным назвать какие-то вещи своими именами.
Как же оценить место Устрялова в развитии русской общественной мысли? Был ли он героем, или же отступником?
Начинать надо с того, что антибольшевизм с самого начала был неоднородным движением. Вся проблема состояла в том, что в 1917 году произошла не одна, а целых две катастрофы. С одной стороны, распалась держава, под напором внешнего противника и внутренних центробежных сил. С другой стороны, после коллапса империи власть подобрала предельно радикальная по своим взглядам и методам борьбы группа революционеров, в своем движении к власти сделавшая ставку на силы распада. Поэтому и антибольшевизм на первых порах как бы соединял в себе оба эти протеста – против пораженчества и распада и против террористических методов государственной политики. Казалось поначалу, что одно логически связано с другим, и оба эти компонента неотделимы от восприятия большевистского переворота, увенчавшегося разгоном Учредительного собрания и Брестским миром. Но уже в конце 1919 года становилось ясно, что полной тождественности и взаимообусловленности этих компонентов нет, и та самая сила, которая всячески провоцировала паралич власти и ее разложение, она-то и окажется в состоянии снова Россию собрать во единое целое. Антибольшевизм должен был расколоться, выделить из себя тот сегмент, для которого террор, репрессии в отношении людей и классов могли быть оправданы в том случае, если их прямым или косвенным следствием становилось усиление державы. Устряловский «национал-большевизм» являлся выражением этих настроений в самой прямой и доходчивой форме, без геополитических, социо-культурных или же мистико-философских обертонов, характерных для других пробольшевистских идейных течений.
Конечно, логическим следствием этой «державности» за любой счет должна была бы стать философия в духе Великого Инквизитора, которая освобождала людей от неподъемного для них бремени свободы, предоставляя им взамен право чувствовать свою причастность к великой империи. Здесь, в этом пункте, консерватизм и в самом деле должен был разойтись с этатизмом, с культом возрождения империи любой ценой, в том числе за счет жизней миллионов людей.
При этом практически Устрялов был более прав, чем Струве, который действительно заигрался в «белое дело», в том числе и в тот момент, когда стало ясно, что это «дело» может победить на его родине лишь в расчете на иностранную помощь и на чужих штыках. Однако отказ от вооруженной борьбы не должен был обязательно означать отказа от политической критики, от морального осуждения режима, который своей террористической политикой в конце концов сам вырыл сам себе яму, предопределив в будущем свое неминуемое и окончательное историческое фиаско. По отдельным замечаниям самого автора сборника можно допустить, что в целом он и не отрицает этого вывода, от каких-то «красных» крайностей и деклараций Колеров осмотрительно и разумно воздерживается. Но все-таки после чтения статьи об Устрялове невольно возникает чувство, что перед нами оправдание духовной капитуляции человека перед уничтожающим его Левиафаном, которому его собственная философия не только не позволяет физически выжить, но и не дает право бросить вызов этому Левиафану от имени какой-то неэтатистской системы ценностей.
Известный религиовед Сергей Филатов один раз в публичном выступлении, отвечая на какой-то вопрос автора этих строк, сказал: далеко не случайно, что мировые войны, включая Холодную войну, выиграли те страны, где был разрешен пацифизм. Вероятно, также не случайно, та цивилизация, которая пока доминирует на нашей планете, цивилизация Евро-Атлантики была той цивилизацией, которая допускала и пока в общем допускает (и даже поощряет) критику ее цивилизационной гегемонии, хотя бы в виде антиколониального дискурса. В этой парадоксальности коренится нравственная неправда любого «национал-большевизма». Конечно, большевики собрали империю и восстановили государственность, рухнувшую в бездну в 1917 году, но они сделали это, исключив саму возможность критики этой государственности с позиции защиты прав простых людей, прав уничтожаемых сословий, «ликвидируемых» классов, прав униженной и загнанной в подполье церкви, прав всех попираемых новым режимом групп населения, кто был привязан к дореволюционному укладу жизни. В итоге, обезопасивший себя от внутренних оппонентов большевистский Левиафан разделил судьбу петербургской монархии. И те, кто предсказывал ему эту судьбу (и в их числе тот же самый Петр Струве и его соратники), в итоге оказались все-таки более правы, хотя они и следовали реально не столько логике идеи, сколько простому нравственному чувству, не желая признавать правоту тех, кто развязал «красный террор», погубил царскую семью, ввел атеистическую диктатуру и тем самым, как они считали, скомпрометировал дело освободительного движения. Наверное, этим людям так до конца и не удалось найти непротиворечивое сочетание этого нравственного чувства и признания приоритетов «самого холодного из всех чудовищ», каким, по словам Ницще, является государство, но, будем справедливы, на попытке этого сочетания этих императивов надорвался не только робкий и ученический русский политический идеализм, но и вся немецкая классическая философия. Что не отменяет того факта, что без этого сочетания невозможна ни России, ни любая другая суверенная государственность.
А это значит, что «политический идеализм» в России имеет далеко не только археологическое значение, что он нуждается в своем творческом продолжении, а, следовательно, национал-большевистский уклон лучшего из знатоков этого течения следует оценить как все-таки соблазн – простительный, но тем не менее небезопасный.
Рецензия опубликована в № 4 за 2020 года журнала «Тетради по консерватизму», http://essaysonconservatism.ru/%e2%84%964-2020/ Републиуется с небольшими стилистическими поправками.
[1] Здесь и далее см.: Колеров М.А. Археология русского политического идеализма: 1900-1927. Очерки и документы. М., 2018. – 352 c.
[2] См.: Вехи. Из глубины. Серия: Из истории отечественной философской мысли. М.: Правда, 1991. Составление и подготовка текста А.А. Яковлева. М.: Правда, 1991.
[3] См.: Проблемы идеализма [1902] / Второе критическое издание, исправленное, под редакцией М. А. Колерова. Подготовка текста Н. В. Самовер. М. : Модест Колеров, 2018. – 656 с. (Серия «Исследования по истории русской мысли». Т. 20.); Колеров М.А. Сборник «Проблемы идеализма» [1902]. История и контекст. М.: Три квадрата, 2002. – 224 с.
[4] Межуев Б. В. Затерянный след (“Проблемы идеализма” в новом историческом контексте) // Полис. Политические исследования. 2002. № 6. С. 167-171.
[5] В прошлом году М.А. Колеров увенчал свои многолетние труды по изучению жизни и творчества Струве развернутым описанием добелогвардейского периода его жизни. С этой книгой мне, к сожалению, еще не удалось познакомиться: Колеров М.А. Петр Струве: революционер без масс. 1870-1918. М.: Циолковский, 2020 . – 464 с.
[6] См., например, интервью М.А. Колерова 1999 года редактору «Логоса» Валерию Анашвили, в котором, надо признать, уже прослеживались ноты разочарования в Чубайсе как несостоявшемся «вожде поколения», запятнавшем себя компромиссом с «розовыми» либералами: «Социализм Сталина, социализм Гитлера и социализм Клинтона, разумеется, весьма различные вещи, но для России, прожившей под косвенным или прямым господством социализма девяносто один год из ста, пережившей Сталина и Гитлера, даже отдаленное, даже клинтоновское родство современного мира с социализмом — вещь невыносимая. Россия, ставшая олицетворением социализма 20 века, должна и первой его преодолеть: такой итог 20 века для России, мне кажется, самым важным. <…> Как публичный ритор, адекватней всех Чубайс, но как политический менеджер, глотающий беспринципные компромиссы с левыми диссидентами, так и не создавший вокруг себя нормального клана государственных и политических работников, он — полная, 100%-ная копия советской бюрократии. В современном правом движении больше никого нет и в ближайшие времена там появится пустыня, чтобы потом, годы спустя, дать место настоящим, “новым правым”». См.: Модест Колеров отвечает на вопросы «Логоса» // Логос. 1999. № 11-12 (21). С. 17-20; https://ruthenia.ru/logos/number/1999_11_12/03.htm
[7] 19 июля 2019 года в своем ФБ, отвечая на реплику К.А. Крылова, М.А. Колеров написал, что отношение к последнему Государю «для русского человека и русского народа – тест на готовность к поражению и самоубийству».
[8] См.: Колеров М.А. «Аще не умрет, не даст плода»: власть и жертва Николая Устрялова // Колеров М.А. Археология русского политического идеализма. 1900-1927. М., 2018. С. 170-229.
[9] Там же. С. 170-171.
[10] Там же. С. 173.
[11] Там же. С. 183. Колеров дает ссылку на: Струве П. Откровенное слово // Великая Россия. Севастополь. 13 (26) декабря 1919 года. Цит. по: ГА РФ. Ф. 5912. Оп. 2. Д. 182. Л. 73.
[12] Там же. С. 188.
[13] Агурский М.С. Идеология национал-большевизма. P.: YMCA-Press, 1980. – 322 p.
[14] В первых строках своей книги Агурский писал так: «Я испытываю чувство глубокого уважения к этому выдающемуся мыслителю за его прозорливость, интеллектуальное мужество, но вместе с тем многие его взгляды внушают мне отвращение, и, прежде всего апофеоз тоталитаризма. Устрялов сыграл выдающуюся роль в советской истории, и я не сомневаюсь, что со временем он займет в оной надлежащее место и признание. Я хорошо понимаю, как им можно злоупотреблять, и очень не хотел бы, чтобы он превратился в знамя неофашизма или во что-либо в этом роде». Цит. по: http://historic.ru/books/item/f00/s00/z0000026/st000.shtml
[15] См.: Чернышов С.Б. Кальдера Россия; http://www.ckp.ru/biblio/publications/kaldera.htm
_______________________
Наш проект можно поддержать.

