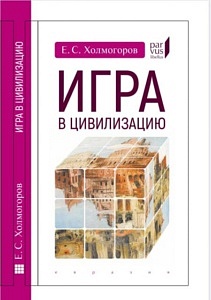 «Русская idea» старается по мере наших скромных возможностей знакомить своих читателей с новыми интересными изданиями, которые представляют работу наших коллег по консервативному цеху. У публициста Егора Холмогорова за последние три года, кажется, вышло около четырех книг, и нам было даже сложно выбрать для подробного разговора какую-то одну. Однако сборник статей «Игра в цивилизацию» (Спб.: «Евразия», 2020. 224 с.) показался нам наиболее любопытным для обстоятельного разговора с автором. В этой книге, состоящей из серии рецензий на российские и западные концепции исторического развития – от Данилевского до Джареда Даймонда, – Егор Холмогоров формулирует и собственное кредо, согласно которому, цивилизация представляет собой определенный культурный стиль, характеризующий поведение и образ мыслей той или иной национальной общности.
«Русская idea» старается по мере наших скромных возможностей знакомить своих читателей с новыми интересными изданиями, которые представляют работу наших коллег по консервативному цеху. У публициста Егора Холмогорова за последние три года, кажется, вышло около четырех книг, и нам было даже сложно выбрать для подробного разговора какую-то одну. Однако сборник статей «Игра в цивилизацию» (Спб.: «Евразия», 2020. 224 с.) показался нам наиболее любопытным для обстоятельного разговора с автором. В этой книге, состоящей из серии рецензий на российские и западные концепции исторического развития – от Данилевского до Джареда Даймонда, – Егор Холмогоров формулирует и собственное кредо, согласно которому, цивилизация представляет собой определенный культурный стиль, характеризующий поведение и образ мыслей той или иной национальной общности.

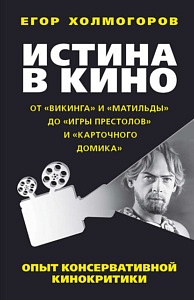
 Иными словами, цивилизации не субъект, но лишь предикат истории. На наш взгляд, цивилизации – это предикат, который в определенный момент становится субъектом. Как, кстати, и нация: итальянцы стали субъектом лишь в период борьбы за национальное объединение, а до этого времени «итальянство» было лишь культурным стилем, общим для множества разных городов Апеннинского полуострова.
Иными словами, цивилизации не субъект, но лишь предикат истории. На наш взгляд, цивилизации – это предикат, который в определенный момент становится субъектом. Как, кстати, и нация: итальянцы стали субъектом лишь в период борьбы за национальное объединение, а до этого времени «итальянство» было лишь культурным стилем, общим для множества разных городов Апеннинского полуострова.
Но тем не менее у автора «Игры в цивилизацию» есть свой набор доводов и аргументов, с которыми, безусловно, нужно считаться. Обращает на себя внимание и другое утверждение Егора – цивилизации характеризуются сознательным отказом от заимствования каких-то элементов внешнего образа жизни. Мы бы сформулировали это так: одним из признаков цивилизации является наличие иммунитета от чужих социокультурных инноваций. И в этом смысле каждой социокультурной общности нужно еще пройти испытание на цивилизационную полноценность.
Но далее возникает множество вопросов, которые мы и попытаемся обсудить в прямом диалоге с автором книги.
***
Борис Межуев
Что побудило тебя, сторонника национального подхода в области политики, написать книгу о цивилизациях? Считаешь ли ты цивилизационный и национальный подходы альтернативными? Или взаимодополняющими?
Егор Холмогоров
Книгу о цивилизациях я написал потому, что цивилизационный подход меня интересовал с юных лет. Помню, как я школьником штудировал Фернана Броделя, у которого цивилизационное начало занимает важное место. Потом прочел критику Люсьеном Февром концепций Шпенглера и Тойнби, потом взялся за самих Шпенглера и Тойнби. А вскоре уже наступила эпоха Хантингтона и Цымбурского. Цивилизация, таким образом, всегда была для меня гуманитарной реальностью, данной в ощущениях, которые получает гуманитарий – через книги, произведения искусства, дискуссии.
В какой-то момент цивилизационный подход стал у нас своего рода идейной соединительной тканью, которая вытесняет бесполезный и обрыдший марксизм и вообще любые линейно-стадиальные подходы к истории. Иногда это было перегибом. Я сам, как ты знаешь, отнюдь не сторонник генерализации цивилизационого подхода, я против концепции цивилизаций как исторически не связанных друг с другом культурных монад.
Моя философия истории, выраженная в концепции Атомного Православия, скорее поступательно-линейная, синтезирующая христианскую историософию и представления о прогрессе как о совершенствовании вооружений, а вся социология вытекает из этих военно-технических скачков. В этом смысле мне близки многие фундаментальные предпосылки Игоря Дьяконова и Сергея Нефедова. Но линейное развитие не объясняет разнообразия мира, а главное – желания и воли оставаться разнообразным. Ведь военно-технические достижения народы используют именно для того, чтобы остаться самими собой. Да – навязать свою волю другим, но самим при этом остаться собой. Не всегда это получается и в этом парадокс империй, что они вызывают мутацию имперского народа. Но жизнеспособная империя всегда опирается на определенную цивилизацию.
Да, можно с некоторой иронией относиться к тем версиям цивилизационного подхода, которые доминировали у нас в 90/00-е годы как некая форма постмарксизма. Однако это была честная попытка задать определенный формат исторического и политологического объяснения реальности, противоположный всепожирающему глобализму.
И в этом, конечно, главное родство национального и цивилизационного подходов. И тот, и другой утверждают некие большие сверхидентичности, которые отвечают нам на вопрос «Кто мы?» и побуждают к известному солидарному видению и действию, о чем напомнил Сэмюэль Хантингтон, сказав: «В мире после холодной войны флаги имеют значение». И это он еще не дожил до нынешнего дня, когда обращение к фундаментальным идентичностям началось не только в незападных цивилизациях, но и в самой западной, в качестве острой реакции на глобалистский вирус проявился идентитаризм.
У национального и цивилизационно-культурного идентитаризма безусловно разные этажи, «умопостигаемые поля», как выражался Арнольд Тойнби. Нации в рамках одного цивилизационного поля могут иметь напряженные противоречия и взаимные-противоположные интересы, но их общий интерес состоит в том, чтобы это поле, в котором актуальны их противоположности, оставалось неповрежденным, чтобы не вторглась орда, перед лицом которой спор тупоконечников и остроконечников потеряет смысл, так как она разобьет все яйца.
В этом смысле тот же конфликт русских с Украиной может интерпретироваться как национальный – русских пытаются насильственно украинизировать, у России увести часть ее коренной исторической территории и т.д. Но национальный конфликт не имел бы и трети такой остроты, если бы он шел в едином поле – в рамках той православной цивилизации, о которой говорил Хантингтон. Конечно, русская цивилизация менее плюралистична, чем западная, но если бы у русского и украинского проектов был только этнический конфликт, проблема не имела бы такого масштаба.
Настоящую ядерную остроту противостоянию придает тот факт, что Украина как политический организм представляет собой попытку выскочить и из национальной русскости и из русской православной цивилизации, попыту путем силового, образовательного, культурного террора сдвинуть фундаментальные цивилизационные границы (да, я знаю, что Вадим Цымбурский считал это пространство межцивилизационным лимитрофом, но и он левобережную Украину и Новороссию относил к прочной русской платформе). То есть это попытка самоотчуждения от русскости и в национальном, и в цивилизационном смысле. Попытка «переезда с вещами» (чужими?) сразу на двух этажах, национальном и цивилизационном. И конечно это все функция и большого геополитически-цивилизационного противостояния Россия-Запад.
Западная политика проигнорировала рекомендации Хантингтона не трясти Украину, разделить ее по цивилизационному рубежу, а не пытаться переписать на баланс Запада целиком. Началось стимулирование и политического и что всего ужасней – церковного противостояния, наступление на православный мир по всему фронту (и снова получается почитай Хантингтона и сделай наоборот). И в результате мы имеем конфликт, который, в принципе, не имеет для России мирного разрешения. Допустить мирного двойного отчуждения Украины – и этнического и цивилизационного – от своего цивилизационного материка Россия попросту не может.
Так что цивилизационное на самом деле не отменяет и не заменяет национального. Наоборот, они вступают в резонанс и усиливают друг друга. Если так можно выразиться – цивилизационный конфликт придает национальному измерению особую ожесточенность и «крестоносное» напряжение.
Борис Межуев
Еще вопрос, Егор, каково твое отношение к авторизованному Святейшим Патриархом Кириллом термину «государство-цивилизация»? Согласен ли ты с этим понятием, и не предполагает она имплицитно некоторую мультинациональность России, или же ее имперский статус?
Егор Холмогоров
Термин «государство-цивилизация» мне нравится. Я предложил парный к нему – «этнос-цивилизация». Русские – один из самых больших этносов планеты, самая большая единая нация планеты, не составленная из разнородных композитных кусков, при этом, в отличие от следующих за нами японцев, не зажатая на небольших островах, а раскинувшаяся по огромному пространству – и все-таки сохраняющая высочайший уровень этнической однородности, казалось бы немыслимый при таких расстояниях. Мы только потому и можем быть государством-цивилизацией, что мы – этнос-цивилизация.
В связи с этим, кстати, процитирую самого Патриарха из его прекрасной книги «Семь слов о Русском Мире»: «Домыслы о гетерогенности русского народа — это миф, имеющий сугубо политическую природу. По мировым масштабам русские — исключительно цельная, единая нация. По степени религиозного и языкового единства регионов, по близости культурных матриц русские не имеют аналогов среди крупных наций планеты».
Предполагает ли цивилизация непременно некоторую многонациональность? На практике – нет. Есть пример цивилизации, которая просто обостренно моноэтнична – это Япония. Ей невозможно отказать ни в цивилизационном своеобразии (нельзя японскую цивилизацию свести только к варианту китайской), и, в то же время, очевидна её этническая монотонность. И даже трудно представить себе как бы эта цивилизация смогла бы стать полиэтнической (хотя, наверное, это произошло бы, если бы японский имперский проект удался и не был стерт в порошок Второй мировой войной).
Если же говорить о теории, то многоэтничность цивилизации проистекает из того простого факта, что, как я определил в финале своей книги, «Цивилизация – это доминирующий на определенном географическом пространстве стиль жизни городского общества, получивший санкцию со стороны высокой культуры [религии]». То есть, если сокращать все определения, цивилизация – это стиль. Особенность стиля состоит именно в том, что он легко усваивается поверх этнических границ, этим он и отличается от этнической традиции с её стереотипами.
Понятно, чтобы бывает разная степень стилистической углубленности, но у русских, особенно после обрушения в ХХ веке городской русской цивилизации, снесенной советами, таких совсем уж изощренных цивилизационно-стилистических тонкостей осталось не так много. По большому счету нам приходится реставрировать свою цивилизацию из руин, опираясь на письменные источники и рассказы предков, а не то, что мы в этой цивилизации жили непрерывно. Очень ограниченный опыт непрерывности дает только соприкосновение с Церковью и деревней.
Мне, как ребенку, росшему в постоянном соприкосновении с русской печкой, пирогами, парным молоком, церквями, иконками, этот опыт стиля был очень важен, хотя и он дополнялся теми весьма многочисленными маркерами русскости, которые присутствовали в позднесоветский период в книгах, фильмах. Но и в крестьянски-церковном мире многое было порушено, а главное, русское крестьянство — это значительная часть русской цивилизации, но не вся она. Наше отчуждение от дворянской и мещанской цивилизаций – это наша боль.
Тем не менее, поскольку цивилизация — это стиль, она может быть воспринята разными этносами и в этом смысле она принципиально полиэтнична. Однако русская цивилизация, как мне кажется, моноцентрична. То есть тут немыслим, как в западном случае, политический полицентризм. Русская цивилизация предполагает единственную доминирующую политическую организацию, единственный центр и определенную внутреннюю иерархию, от него исходящую. И это нормально, полицентричные цивилизации – скорее исключение, чем правило. Китайская цивилизация, на деле, еще гораздо более моноцентрична.
Можно ли назвать это империей? И нужно ли?
Существует вообще точка зрения, восходящая к Книге Даниила, что Империя – одна, она началась в Аккаде и Вавилонии и продолжается до сего дня, когда мы живем в постримской реальности. И у такой точки зрения есть не только серьезные богословские, но и исторические обоснования – я знаю тех, кто такую точку зрения разрабатывает. В этом смысле вообще всё – империя, но тогда уравнение цивилизации и империи подрывается с той стороны, что цивилизаций много, а империя одна, прочие же универсальные государства, образуемые цивилизациями, истинными империями не являются. И вот если брать эту историософию – а она, как мне кажется, будет становиться все более популярной, — то мы империя, но не потому, что мы цивилизация, а потому что мы – Третий Рим, то есть часть этой великой имперской традиции.
 А цивилизация, русская цивилизация, мы потому, что русский народ выработал определенную систему культурных и адаптационных особенностей, свой оригинальный стиль. У меня есть работа «Категории русской цивилизации», которую я не стал включать в «Игру в цивилизацию», так как книга тогда раздулась бы. Но она только что напечатана в моей книге «Русские. Нация, цивилизация, государственность и право русских на Россию» (М.: Книжный мир, 2020).
А цивилизация, русская цивилизация, мы потому, что русский народ выработал определенную систему культурных и адаптационных особенностей, свой оригинальный стиль. У меня есть работа «Категории русской цивилизации», которую я не стал включать в «Игру в цивилизацию», так как книга тогда раздулась бы. Но она только что напечатана в моей книге «Русские. Нация, цивилизация, государственность и право русских на Россию» (М.: Книжный мир, 2020).
В этой работе я выделяю определенные исторические категории, определяющие русское своеобразие в «большом времени»: роль Севера, роль рек, значение агрокультуры ржи, преобладание аффекта обиды над аффектом оскорбления, наше стремление к взаимному разбеганию и перемене мест, византийский культурный стандарт, стремление найти рай по эту сторону жизни, пространственное восприятие, выражающееся в шатровой архитектуре, культурный «синдром Татьяны», когда, в противоположность западной романтической культуре, женское начало утверждает себя не через адюльтер, а через осознанный отказ от него…
Иначе говоря, русский стиль можно описать. И его можно усвоить. В этом смысле русская цивилизация охватывает не только русских, но без русских и помимо русских она невозможна. Русский стиль связан с этническими корнями так плотно, как в мало какой другой цивилизации.
Борис Межуев
В своей книге ты говоришь, что не считаешь цивилизации субъектами истории, каковым являются только нации, или народы. Признаюсь, этот тезис у меня вызывает сомнение. Просто по той причине, что само появление понятия «цивилизация» в качестве именно политического, а не просто социального феномена (Данилевский, Хантингтон, в известной степени Цымбурский) обусловлено особенностями феномена Запада. Но очевидно, что Запад в XX веке продемонстрировал способность действовать солидарно и сообща — в том числе против России, тем самым подтвердив правоту тезиса Данилевского, что в истории субъектами являются не только нации. Не кажется ли тебе, что проблема цивилизационной субъектности все-таки требует дополнительной концептуализации?
Егор Холмогоров
Когда я говорю о том, что цивилизация не является субъектом истории, я прежде всего возражаю против их некритичного гипостазирования, персонификации отвлеченных понятий. Тенденция к такому гипостазированию в той или иной степени есть и у Данилевского, и у Тойнби, иу Цымбурского и особенно у Хантингтона, коль скоро концепция «конфликта цивилизаций» прямо требует такого гипостазирования.
Хотя Хантингтон, будучи серьезным политологом, вполне конкретно описал механизм такого конфликта, который не предполагает гипостазирования и формирования ложной субъектности цивилизации. Это механизм подтягивания периферийными конфликтующими силами центровых одно-цивилизационных держав, который он показал на примере Боснии. Начинается все с конфликта двух разно-культурных сторон улицы, а заканчивается тем, что подтягиваются сверхдержавы, которым и приходится везти диалог по урегулированию и сдерживать радикалов.
Но как раз пример Хантингтона и говорит об ограниченности этой субъектности цивилизаций. США поддержали не западных католиков – хорватов, как это сделала Германия, а мусульман во главе с Алией Изетбеговичем (не буду говорить «боснийцев», так как боснийские сербы очень возмущаются, когда мусульман называют «боснийцами). И позднее, в косовском кризисе США всей силой вписались за албанцев, совершенно иноцивилизационную для Запада группу.
Если и считать, что понятие о цивилизации введено было на Западе в ХХ веке, то Запад действовал против модели цивилизационной субъектности и усиленно подрывал свою цивилизационную идентичность. Можно, конечно, поискать внутрикультурные, внутрицивилизационные механизмы, заставляющие цивилизацию уничтожать саму себя, свое культурное я, свою основу – такие механизмы упадка искали и Константин Леонтьев (жаль, что я не смог посвятить ему отдельный очерк), и Шпенглер, и сейчас ищут Пэт Бьюкенен или Тило Саррацин.
Но моя базовая гипотеза – цивилизация все-таки не является действующим коллективным «я», каковым в известном смысле является нация.
Цивилизация – это коллективный образ мышления, это способ действия, это основание для действия, но это не само действие, не субъектное «я». Характерно, что «Запад» как некий цивилизационный субъект на деле проявился в противостоянии, в котором не было ничего цивилизационного, – борьбе против СССР, который по своим ценностным установкам был совершенно западническим обществом. И это противостояние, холодная война, началось, заметим, после самого страшного внутреннего раскола Запада – Второй мировой войны, когда две культурных парадигмы в европейском социуме (подробней об этих парадигмах я пишу в очерке о Йохане Хейзинга, это, грубо говоря, культ жизненного полнокровия против культа самоконтроля) схватились не на жизнь, а на смерть и ситуацию пришлось лечить кровью русских солдат и деньгами американских бизнесменов (не равный вклад, несомненно).
Оправдание себя через цивилизационную субъектность было вторичным, на мой взгляд, по сравнению с появлением самой субъектности. То есть это не Запад породил НАТО, а НАТО породило определенную концепцию Запада, довольно кривую, заметим, так как оно включало в себя Турцию.
Еще интересней был случай конфликта Крымской войны, на основании которого Данилевский и выстроил свою концепцию. На деле этот конфликт, конечно, не был цивилизационным. Это был идеологический конфликт, такой же, как и холодная война, но только с обратным знаком. Николай I после известных событий 14 декабря и продолжая курс Священного Союза отстроил Россию как главный контрреволюционный субъект в Европе. Так на это смотрел он сам вместе с Сергеем Уваровым – русские первая контрреволюционная нация Европы. Так на это смотрели и извне – от Пальмерстона и Кюстина до Маркса и Энгельса: царская Россия как черная туча, которая накрывает все порывы европейских наций к либеральной и социалистической свободе.
Между 1848 и 1853 годами по всей Европе шла ожесточенная работа, чтобы избавиться от «гнета» этой тучи, добиться устранения угрозы либеральным и революционным началам. И либеральное правительство Пальмерстона, пост-революционное правительство Наполеона III, либеральное правительство Камилло Кавура, испуганные революцией правительства Фридриха Вильгельма IV и Франца Иосифа – выполняли заказ всей европейской прогрессивной общественности покончить с консервативным гнетом России. И, в общем, покончили – Россия вынуждена была отказаться от своей всеевропейской консервативной роли.
Однако в самой России все это было интерпретировано иначе, так как это был момент углубления и укрепления самобытной русской идентичности, прямо вытекавшей из николаевской и уваровской охранительной программы (тут напомню о моем исследовании идеологии и образовательной политики Уварова: «Русификация русских»). Русские становились более русскими, русские осознавали себя как самобытную цивилизацию в противоположность Европе, русские воспринимали поход на Константинополь как выражение священной миссии русской цивилизации, её призвания.
И, разумеется, у нас противодействие Запада этому походу было воспринято именно как проявление коллективной субъектности их цивилизации в противность нашей. И Данилевский дал свою рефлексию, вытекавшую из этого восприятия – гениальную в целом, хотя не всегда точную в частностях (например, уравнять конфликт Пруссии с Данией за этнически немецкий Шлезвиг и конфликт России с Турцией за святые места или даже Константинополь, которые никак этнически русскими не были, это была большая натяжка).
То есть налицо была взаимная misinterpretation. Европа требовала, чтобы Россия перестала мешать «свободе». Россия это восприняла как требование перестать быть самой собой. Другое дело, что можно справедливо заметить в «либерально-революционном» консенсусе Европы некое выражение природы Западной цивилизации на определенном этапе. Но, все-таки, противостоять России требовали не готические соборы, не фуги Баха, даже не паровые машины, а торжествовавший все более безоговорочно революционно-якобинский дух.
Если бы Николай Павлович нашел способ развивать русский дух и русскую цивилизационную самость, не вмешиваясь в европейскую революцию, предоставив ее самой себе, конфликта можно было бы избежать. Но, увы, император был еще слишком европейцем, он слишком дорожил своими прусскими и германскими династическими связями, слишком убежден в необходимости противостояния монархов, как выразителей воли народа, революционерам, как самозваным выразителям. И русскость для него была рычагом контрреволюции, а не только ценностью самой по себе. Поэтому идеология дала ту конфигурацию конфликта, которая побудила мысль Данилевского интерпретировать его как цивилизационный. И Николай Яковлевич скрестил свою оригинальную теорию цивилизации и оригинальную геополитику несколько произвольным образом.
Так что нет, рискну настаивать. Приписывать цивилизациям активную историческую субъектность, действующую персонификацию, в том же смысле, что и народам, на мой взгляд – нельзя. Другое дело, что цивилизация создает несомненно некое поле, в котором появляются основания для координации политических действий, возникают такие идеи, как Крестовые Походы, НАТО, панславизм, или борьба за Русский Мир. Но сама размытость этих исторических явлений, так контрастируя с ощущаемой нами в истории четкостью порывов наций, говорит о том, что перед нами явления не совсем идентичные. Цивилизация, на мой взгляд, стиль и поле действия, но не субъект действия.
Борис Межуев
Два вопроса по конкретным тезисам книги. Ты все-таки соглашаешься с Львом Гумилевым в его отрицании химерических, то есть синкретических в культурном и этническом отношении образований. Известно, что впоследствии эта идея была обращена против так наз. полукровок, типа, что они — угроза для этнически однородной среды. Но то, что является с одной стороны угрозой, с другой является источником развития, как любая мутация, если она вживается в ткань общества и не разрывает ее. Не видишь ли ты тут главный порок всякой этнически ориентированной концепции и соответственно преимущество цивилизационного подхода?
Егор Холмогоров
Гумилевская концепция этнической химеры — это действительно оригинальный взгляд на историю, полагаю, в значительной степени сформированный наблюдением Гумилева за послереволюционной средой русских городов, где столкнулись в одном коммунальном пространстве три традиции – разгромленная русская городская традиция «бывших», к которым принадлежал он сам, деклассированная традиция крестьянства, которое было лишено корней и выброшена в эти города как обслуга советской власти (Есенин не случайно стал выразителем настроения этой среды), и традиция выплеснувшегося из местечек ашкеназского еврейства, в значительной степени заместившего функции интеллигенции. Выходцы из местечек не без неприязни относились к «бывшим» как к тем, чье место заняли, и с презрением к посткрестьянам, ощущая свое культурное превосходство (хотя к ним самим так же точно с презрением относились многие «бывшие»).
Особенностью этого коктейля было то, что большинство представителей этих столкнувшихся этнических и культурных традиций не получали воспитания в духе своей традиции. Особенно в случае смешанных браков человек не был ни русским интеллигентом, ни евреем, ни крестьянином. Это состояние, когда человек ложно интерпретирует себя, свое место в мире, и другие его ложно интерпретируют именно потому, что он к определенной традиции не привязан и в ней не образован.
Гумилев опрокинул опыт этой встречи в прошлое, так появилась книга «Хунну в Китае», где он именно в рамках концепции химеры трактует противоречия между оккупантами хуннами и оккупированными китайцами. А дальше началась фантастическая экспансия этой теории, например на историю Хазарии, знаменитый очерк «Зигзаг истории», вошедший в книгу «Древняя Русь и Великая Степь». Мы почти ничего не знаем о хазарском обществе, о его культурной психологии, о мотивах поведения, так что это была чистой воды произвольная экстраполяция, как это у Гумилева и обычно.
Лев Николаевич – это ведь по сути Толкиен, который, однако, использовал исторических персонажей и названия народов вместо хоббитов, орков, Фродо и Гэндальфов. Отсюда происходят постоянные путаницы. Он излагает здравую интересную концепцию, но фантастизируя и фальсифицируя исторический материал.
В случае с химерой именно так и происходит. Мы почти ничего не можем сказать о том, была ли Хазария в действительности химерическим обществом и как это проявлялось в ее общественной жизни. Про гуннов мы можем сказать чуть больше, но и тут гумилевские интерпретации грешат фэнтезийностью. Но мы вполне можем согласиться с теоретическим посылом – ситуация, когда ребенок воспитывается вне своей традициях, а две традиции в семье взаимно погашают и искажают друг друга, результатом может стать довольно проблематичная химерическая культура, породившая, к примеру, ту среду, которая была затронута «русофобией» Игоря Шафаревича.
Но проблема здесь не в полукровках, вообще не в крови, не в семейной биологии, генетике, евгенике и прочем. Вопрос в четкости формирования человека в рамках той или иной этнической традиции – вопрос колыбельных, считалок, блюд на кухне и прочем. Когда у человека, особенно рефлексирующего человека, такой четкости традиции нет, то его сознание начинает двоиться, он ощущает отталкивание и от той почвы, и от другой, и вообще от всего, что связано с почвой. Вполне знакомое и периодически наблюдаемое нами явление – русофобы-антисемиты русско-еврейского происхождения.
И здесь открываются ворота для другого описанного Гумилевым явления, в существовании которого я лично уверен, так как встречался с ним в жизни не раз: антисистемы. То есть систематического, идейного отрицания жизни во всех её проявлениях, стремления при помощи той или иной идеологии с жизнью покончить, обеспечить торжество смерти – не важно уж под каким идейным соусом.
Сразу надо понять, что химера — это не антисистема и антисистема это не химера. Химера, это результат не получившегося совмещения жизнеспособных сама по себе традиций. Антисистема – это отрицание всякой традиции и всякой жизни. Несомненно, жизнеотрицание находит самую благоприятную почву именно там, где человек оторван от жизни и от корней. Поэтому именно в химерических социумах и средах антисистема находит себе максимальное число адептов – их не надо вытаскивать из плотной жизненной среды, они уже заражены нигилизмом. Поэтому химеры питательная среда для антисистемы.
Может ли «полукровка» быть полезной мутацией, агентом развития жизни, в противоположность антисистеме? Несомненно, может. Но для этого нужно определенное преодоление химеричности. Причем достаточно продуманное и рефлексивное.
Тут можно и вообще быть не полукровкой, как, к примеру, Иосиф Бродский. Безусловно, огромное явление в русской культуре и поэзии. Но почему? «Потому что искусство поэзии требует слов, я — один из глухих, обрусевших, угрюмых послов второсортной державы, связавшейся с этой». Именно так – «обрусевших» — он читает на некоторых аудиозаписях. Бродский хочет быть великим поэтом. А искусство поэзии требует слов, которых ни в идише, ни в иврите не найдешь. Их можно найти только в великой русской поэтической традиции, к которой он приобщается через Анну Ахматову.
И, конечно, Бродский — это огромное и важное явление в русской поэзии – именно через традицию, через работу слова, а не через этничность. И как у него функционирует эта традиция хорошо видно по его последнему, как оказалось, великому аккорду, «На независимость Украины» – песни протеста против неприятия русской культуры, против бегства из русской культуры в мелочную центрально-европейскую сепаратистскую традицию. То есть в большой традиции он добирает то, что не могло быть получено им через семейную, этническую, которая была связана, кстати, тоже скорее не с еврейством, а с имперским культом Петербурга как классицистической морской столицы. А там, где он становится ближе к русскому этническому началу, у него неожиданно возникает породнение с Николаем Рубцовым (они кажется и виделись, и издавались у одних и тех же подпольных издателей, но в целом не общались) – это богатая тема, но достаточно вспомнить поэтическую перекличку «Ты поскачешь во мраке по бескрайним холодным холмам» и «Я буду скакать по холмам задремавшей отчизны, Неведомый сын удивительных вольных племен!».
Но у гениального Рубцова не было этой школы приобщения к большой русской поэтической традиции, поэтому он не занял в русской поэзии столько места, сколько заслуживал. А если представить себе нечто увы немыслимое в координатах ХХ века – Рубцова, прошедшего ахматовскую школу, то мы бы имели, наверное, явление удивительное.
Ахматова, кстати, уделяла Бродскому внимания куда больше, чем сыну Льву Гумилеву и именно здесь еще одна субъективная причина неприязни Гумилева к своему химеричному жизненному контексту, он все время ощущал, что его обкрадывают. А Бродский, напротив, ревновал к Ахматовой, особенно посмертно. Есть совершенно дикая история о заочном столкновении этих двух претензий и двух преемств, рассказанная Анатолием Найманом.
«Однажды зимой мы с Бродским поехали на могилу Ахматовой, ещё достаточно свежую. Мы увидели над ней новый крест, махину, огромный, металлический, той фактуры и того художественного исполнения, которые царили тогда во вкусах, насаждаемых журналом “Юность” и молодёжным кафе. К одной из поперечин был привинчен грубый муляж голубки из дешёвого блестящего свинца или цинка. Рядом валялся деревянный крест, простой, соразмерный, стоявший на могиле со дня похорон. Потом выяснилось, что новый сделан по заказу Льва Николаевича Гумилёва в псковских мастерских народного промысла, но в ту минуту для нас, помнящих её живую неизмеримо острее, чем мёртвую, и всё ещё принадлежащую нам, а не смерти, родству и чьим бы то ни было эстетически-религиозным принципам, это было оскорбительно и невозможно, как ослепляющая зрение пощёчина. И мы принялись выдирать новый, чтобы поставить старый. Земля была промёрзшая, крест вкопан глубоко, ничего у нас не получилось. С кладбища мы отправились на дачу к Жирмунскому. Рассказали. Он встал с кресла, широко перекрестился и сказал торжественно: «Какое счастье! Два еврея вырывают православный крест из могилы — вы понимаете, что это значит?».
Любопытно, что Найман и Бродский хотели не просто вырвать крест, а вернуть старый, тоже крест, который больше соответствовал их эстетике и восприятию Ахматовой, но тут, конечно, прямо ощущается посягательство быть большими сыновьями, чем сын.
В общем, подчеркну еще раз главное. Проблемы химеры по Гумилеву – это проблема не крови, это проблема традиции, которую человек получает от предков и осуществляет (либо – не соуществляет) в себе. И тут во многом от самого человека зависит, будет ли он элементом «творческой мутации» или разрушения и антисистемы, станет народом или «малым народом».
Борис Межуев
Ну и не могу все-таки не задать вопрос о Цымбурском. Ты видишь слабость его метафоры Острова в снятии в ней напряженности освоения внутреннего пространства России как потенциально своего. Но ведь у нас более актуальна другая опасность — есть ведь введенная Александром Эткиндом метафора «внутренней колонизации», как раз предельно заостряющая эту напряженность. Может быть как раз консервативное снятие смысловой напряженности есть преимущество, а не недостаток островной концепции, в условиях, когда удержание Сибири и Дальнего Востока проблематизируется с разных точек зрения?
Егор Холмогоров
Главное, что меня смущает в том ходе мысли, который порождает геополитику вообще и, в частности, геополитику Цымбурского – это господство органической метафоры в целом. История трактуется как часть естественного процесса, как природа. И именно природность, органичность, выступают как самодостаточное оправдание и обоснование для существования чего-либо. Такова натура, а, значит, это имеет право существовать, значит, форма этого целесообразна. И напротив, все супранатуральное тем самым ставится под подозрение.
Перед нами, безусловно, наследие идей Просвещения. Именно тогда Природа окончательно вытесняет Бога в философской мысли, Бог анонимизируется и деперсонифицируется. Natura naturans и natura naturata сливаются в некоем неразличимом единстве. Напротив, Божественный сверхъсубъект, мысль об историческом Провидении, о Боге, Который своей волей воздвигает и рушит царства, открывает проход по морю и останавливает солнце, полностью вытесняются как нечто легитимное и неприличное.
Я, кстати, пытаюсь с малым успехом противостоять этой десакрализации истории своей концепцией агиополитики, но интеллектуального резонанса это почти не вызывает.
Разумеется, консерватизм тоже приспособился к этому органицизму. Вся консервативная традиция, идущая от Де Местра, в противоположность Эдмунду Бёрку, является по сути крипто-руссоистской, в которой основной консервативной ценностью считается именно изначально данное природой. И нельзя сказать, что такой тип органицистского консерватизма лишен смысла, особенно в эпоху всевозможных трансгендеров и биохакинга.
Однако само гендерное безумие и показывает нам ограниченность консервативного ресурса «естественного» без подмоги «божественного». Оказывается, естественное, кажущееся очевидным, ничего не стоит хакнуть, затоптать, объявить произвольным социальным конструктом. Ваши апелляции к природной данности будут объявлены нелегитимными, мракобесными и даже криминальными, как превратился по сути в мыслепреступника патриарх генетики Джеймс Уотсон, указавший на природные различия рас.
То есть в нашу эпоху апеллировать к органической метафоре как к чему-то успокаивающему нервы, естественному, очевидному (тем более, что метафора Цымбурского поэтически красива, но географически совсем не очевидна и я бы даже сказал – против очевидности) – это некоторый самообман. Именно естественное сейчас атакуется с наибольшим ожесточением. Оказалось, что для «сил прогресса» снести «головную» идею Бога или нации – мало. Все равно через семью восстанавливается все та же непрогрессивная иерархическая структура. Просто потому что, когда ты отец и у тебя дети, особенно больше одного, без иерархии, дисциплины и прочих консервативных основ обойтись нельзя. Поэтому все природное тоже будет уничтожено – возможно во имя экологии. Скажем те же геополитические притязания России, к примеру, на Арктику будут объявлены Гретами Тунберг «неэкологичными».
Поэтому сегодня спрятаться за органичность, естественность того или иного месторазвития, на предопределенность природой известного исторического хода вещей – мало. Неотменимость определенных исторических фактов как раз легче обосновать в волюнтаризме, в нашей воле и нашем намерении, чтобы это было так, в божественном призвании и предопределении, которое мы ощущаем.
Да, у скачка русской цивилизации были определенные географические предпосылки – её северный характер, речная система, появление огнестрельного оружия. Но без исторической воли к созданию великого государства и без религиозной миссии, которая за всем этим ощущалась, такой скачок был бы невозможен и вряд ли бы состоялся. И сам Цымбурский, мне кажется, чем дальше, тем больше это понимал, говоря чаще о хронополитике, а не о геополитике, изучая русскую сакральную вертикаль, её символы и смыслы. Мне кажется, он дал бы еще немало интересного, если бы не безвременная смерть, которая для меня лично навсегда останется огромной и незаслуженной нами утратой.
Что же касается Александра Эткинда, то эта его концепция «внутренней колонизации» – нечистая и ангажированная игра словами. Начиная с Ключевского общий для русской историографии тезис – «история России — это история страны, которая колонизируется». Этот тезис развивает школа Ключевского, особенно подробно – Любавский, и в наши дни в интерпретации русской истории фактору народной колонизации придается большое значение, к примеру, в концепции Светланы Лурье. Однако во всех этих случаях под колонизацией разумеется процесс заселения народом земли, иногда ничейной земли, почти всегда – земли с несомненно более низкоуровневыми политическими структурами, чем у русских. Речь идет об органическом процессе истории нации.
Процесс же строительства Российской Империи никогда «колонизацией» не назывался.
Эткинд характерному для русской историографии понятию колонизации придает фальшивый смысл, связанный с европейским заморским колониализмом. Когда заморскими пришельцами захватывались и разрушались в том числе и достаточно развитые местные суперструктуры, на месте которых появлялись европейские колонии. Причем эти колонии, чаще всего, имели лишь очень ограниченное европейское население, представлявшее собой лишь небольшую надстройку над местными институтами и племенами. Даже там, где имело место широкое европейское переселенчество из-за моря, колониальная концепция буксует, а деколонизация была исключительно болезненной, как в том же Алжире. И вообще нигде политические структуры европейских метрополий и колоний не синонимизировались.
Характерный факт. Британской Империи никогда не существовало – меня самого это поразило, я был уверен в обратном, как и все обыватели, пока мой взгляд не обратил на это опытный юрист. Нигде юридически никогда не было прописано понятие Британской Империи. Это чисто публицистический ярлык. Британские короли с Виктории до Георга VI были «императорами Индии». Однако никакой Индийской империи тоже никогда не существовало. Британское владение в Индии именовалось British Raj. Британские короли в Индии могли быть либо наследниками падишахов Великих Моголов, либо махараджей государства Маратхов.
В любом случае на титул именно императоров британские короли права не имели. Махараджи – быть может.
В случае развития Российской Империи речь шла не о колониальной заморской экспансии (отличие ее от нормальной имперской прекрасно выявил Карл Шмитт в «Номосе Земли»), а о простирании единого территориального государства, сопровождавшемся немедленной переселенческой волной основного населения – русских крестьян. Никакой принципиальной разницы между заселением русского Севера, Урала, Сибири, Новороссии не существовало. Никаких «колониальных структур» не возникало.
Характерно, что современным идеологам сепаратизма приходится «деколонизировать» структуры, искусственно созданные большевиками. Вспомним, к примеру, Якутию. Никакой Якутии, куда пришли бы «русские колонизаторы», не существовало. Большинство территории нынешней Якутии было заселено тунгусами/эвенками. Якуты были новопришедшим на среднее течение Лены народом, занимавшим крайне ограниченную площадь. Именно русская власть дала возможность этим «новичкам» распространиться, хотя и сейчас значительная часть площади республики Якутия, если рассчитывать большинство населения по районам, имеет первенствующее эвенкийское население, а значительная часть – русская.
«Деколонизация» – это искусственный конструкт, если говорить о европейском опыте и еще более искусственный, если говорить о русском. Когда у нас говорят о «русском колониальном опыте» и намекают на необходимость «деколонизации», при этом смешивая народную колонизацию и колониализм, то перед нами чистой воды шулерство. А шулеров одинаково невозможно переубедить как органическими, так и историческими аргументами. Им надо просто бить по рукам. «Колониально/антиколониальный» дискурс просто не должен приниматься в русском случае к рассмотрению.
______
Наш проект осуществляется на общественных началах и нуждается в помощи наших читателей. Будем благодарны за помощь проекту:
Номер банковской карты – 4817760155791159 (Сбербанк)
Реквизиты банковской карты:
— счет 40817810540012455516
— БИК 044525225
Счет для перевода по системе Paypal — russkayaidea@gmail.com
Яндекс-кошелек — 410015350990956

