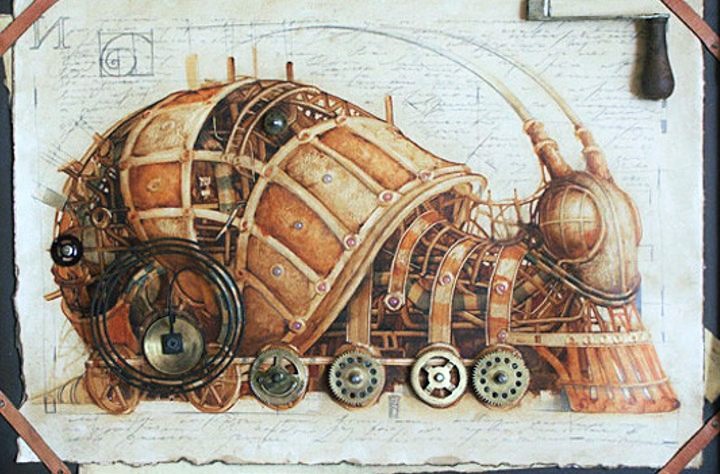Модернизация – очень притягательное слово. Вряд ли найдутся люди, готовые открыто признать, что они – против модернизации. Даже такие стопроцентные сторонники либерал-монетаризма как Евгений Ясин некогда в интервью Борису Межуеву и мне главной причиной, по которой лучше откладывать деньги куда-нибудь, чем пускать их на поддержку реального сектора экономики, называют «крайне низкий уровень деловой активности». Не вдаваясь в обсуждение сути этого аргумента, в данном контексте важно отметить то, что Ясин не отверг саму идею модернизации, он лишь утверждал, что она не может быть реализована «здесь и сейчас», то есть в России конца первого десятилетия XXI в.
Об отношении либерал-монетаристов к модернизационным идеям свидетельствует и популярность среди либеральных реформаторов России начала 1990-х годов авторитарных модернизаторов Аугусто Пиночета, а сегодня – и Ли Куан Ю.
Тем самым, модернизация как глобальный проект переустройства страны с целью ее экономического подъема идейно не отвергается даже либерал-монетаристами, не говоря уже о сторонниках развития реального сектора экономики, вне зависимости от того, являются ли они жесткими дирижистами (как Сергей Глазьев) или представителями либерально ориентированного бизнеса (Борис Титов, Яков Миркин).
Однако исторический опыт модернизаций в России, несмотря на всю условность любых исторических аналогий – на самом деле, серьезный аргумент против модернизации сегодня. И далеко не только потому, что последняя из них – сталинская – сопровождалась сильнейшим «закручиванием» всех возможных гаек.
***
Сторонники концепции модернизаций выделяют в истории России 4 модернизации: Петра I, Александра II, столыпинскую и сталинскую 1. Иногда к этому списку добавляют реформы Александра I. Однако в контексте заявленной темы имеет смысл говорить о модернизациях Александра II и И.В. Сталина: петровская модернизация проводилась все-таки в исторически очень отличное от нынешнего время, реформы Александра I касались в основном сферы управления, а столыпинская модернизация оказалась незавершенной из-за гибели самого П.А. Столыпина и Первой мировой войны.
Какие же особенности александровской и сталинской модернизаций, и шире – российской власти и российского общества – позволяют предположить сомнительную успешность глобального модернизационного проекта сегодня?
Во-первых, российская власть плохо владеет навыком не столько создавать проекты развития, сколько обеспечивать их бесперебойное существование, в первую очередь, – сохранение набора их базовых ценностей – вне зависимости от смены правителей и правительств. Сохраняя при этом постоянное, последовательное и поступательное функционирование одних и тех же институтов, без их бесконечного реформирования, с одной стороны, и утапливания в бюрократической рутине – с другой.
Особенно наглядно этот феномен ценностной, идейной и идеологической неустойчивости российской власти проявился в XIX веке. Не случайно этот период в учебниках истории с удовольствием изображают в виде своеобразного маятника – от «либеральных» Александра I и Александра II к «реакционным» Николаю I и Александру III. Это «качание» от одного правления к другому и от одного набора ценностей к другому в течение целого столетия закончилось в правление Николая II идеологической чехардой, кадровой нестабильностью и, в определенном смысле, стало одной из глобальных предпосылок событий 1917 года.
Казалось бы, советская эпоха с её планированием экономики, монолитностью элиты и единством идеологии была совсем иной. Однако в долгосрочной перспективе советский модернизационный проект, в том числе – его ценностный компонент, по сути, после технологического и экономического прорыва 1930-х годов стал всё больше поглощаться бюрократической практикой. А в какой-то момент превратился лишь в оболочку для властной риторики, догматизм которой не только препятствовал реальному долгосрочному проектированию, но и сильно мешал элите понять, что же делать со страной дальше.
Во-вторых, названная черта российской власти во многом определила другую особенность модернизаций. «Постмодернизаторское» поколение бюрократии, находившееся в первые, наиболее трудные годы реформ нередко на старте своей карьеры, обычно идеологически и практически осмысляло себя через противопоставление поколению модернизаторов. Это, в свою очередь, приводило к потере каких-то видимых ориентиров для развития и либо контрреформам (Александр III), либо к стагнации и застою (Н.С. Хрущев и Л.И. Брежнев). Во втором случае после смерти «вождя» развенчание культа его личности распространялось и на его методы модернизации страны. В итоге, вместо поступательного однонаправленного развития на основе достигнутого в ходе модернизаций, в том числе путем точечного устранения «перегибов», рано или поздно начинались критика самих принципов реформ, поиск новых принципов в качестве «правильных» и на их основе – пересмотр достижений предшествующего периода.
Казалось бы, ничего не мешало Александру II в 1870-е годы продолжить общее направление реформ, заданное им в начале 1860-х. Скажем, сделать следующий шаг в освобождении крестьянства (так, как это понималось в либеральном духе начала 1860-х годов) – отменить круговую поруку и упразднить общину. Или расширить институт земского самоуправления вниз (с уровня уезда до уровня волости) и вверх (объединение губернских земств в некий общеземский орган или создание всероссийской земской организации) – именно таковы были основные требования либерально настроенной части земцев. В области судопроизводства логичным развитием судебной реформы могла бы стать разработка норм административной юстиции – то есть той области права, которая определяла бы права граждан подавать в суд на чиновников 2.
Рубежным моментом в сворачивании преобразований стал выстрел Дмитрия Каракозова, который, как решил император, отразил реакцию общества на его реформы. Значительную роль сыграла и мнительность императора, свойственная ему и до восшествия на престол, но особенно обострившаяся после того же выстрела 1866 года. Однако, думается, дело было не в одном императоре. «Короля играет свита». И вокруг него не нашлось людей, способных убедить в продолжении реформ – убедить точно также, как во второй половине 1850-х годов его убедили в необходимости их начала. И хотя и братья Милютины, и великий князь Константин Николаевич по-прежнему были где-то рядом с императором (правда, Николай Милютин с конца 1866 года отошел от дел), да и отдельные реформы (городская, военная) имели место в начале 1870-х годов – общее же ощущение от 1870-х годов таково, что власть пошла по пути отрицания сделанного ею же десятилетием ранее. Это направление сохранилось и в следующее царствование. Большое влияние при этом в 1880-е годы получили активные сторонники и участники разработки реформ начала 1860-х годов, разочаровавшиеся в них еще на этапе их внедрения в жизнь. Как, скажем, К.П. Победоносцев, Д.А. Толстой, М.Н. Катков, К.Н. Леонтьев, ставшие идеологическими символами правления Александра III.
В советское время «постсталинское» поколение бюрократии также не стремилось продолжить сталинский экономический проект, и объективно требовавшееся на следующем историческом шаге обновление системы потонуло не только в волюнтаризме Хрущева с его кукурузными полями, но и в бюрократической рутине как таковой. Показательно, что экономическая реформа при Хрущеве состояла в попытках структурного переформатирования системы управления, а косыгинская реформа, обеспечившая «золотую пятилетку» 1966 – 1970 годов, не была продолжена – опять же по причине идейных разногласий и аппаратных расхождений в Политбюро.

В-третьих, любая модернизация опирается на определенную общественную мобилизацию. Это вполне естественно для технологии «большого рывка вперед», причем мобилизация хорошо работает и на уровне личностном, и на уровне общественном, и на уровне общегосударственном. Общественная мобилизация – важный ресурс модернизации. И этот ресурс хорошо работает в российских условиях. Как известно, русское сознание вообще легче воспринимает глобальные задачи, больших и серьезных врагов – будь то нацизм, эксплуататорские классы или крестьянская отсталость. Нам легче вести борьбу на грани выживания, чем заниматься будничной работой, не осененной великой идеей.
В зависимости от особенностей исторического контекста и специфики российских модернизаций разной была степень мобилизации общества и то, какие его группы мобилизовывались в первую очередь. Александровские реформы, нацеленные на либерализацию политической и экономической сфер жизни общества, на его «раскрепощение» (не только в буквальном смысле отмены крепостного права, но и в смысле увеличения степени свободы и самоорганизации по разным направлениям) проводились на фоне активизации общественных сил. «Народ» был в стороне от этого процесса, но практически всё образованное общество, его интеллектуальная элита буквально слились в едином реформаторском порыве с властью. Причем это явление захватило и провинциальное общество – ведь в каждой губернии вся «прогрессивная» (и не очень) общественность принимала активное участие в губернских комитетах по крестьянскому вопросу.
Сталинская модернизация по понятным причинам мобилизовала всё общество всеми возможными способами. В их ряду – как репрессивные приемы (партийные чистки, раскулачивание, насильственная коллективизация, ГУЛАГ, расстрелы и т.д.), так и совершенно очевидный неподдельный энтузиазм масс. Этот фактор стал одним из серьезных ресурсов сталинской модернизации, который не стоит скидывать со счетов даже тем, кто считает, что экономический и технологический рывок 1930-х годов обеспечивался преимущественно иностранными деньгами и зарубежными инженерами, а без Великой депрессии на Западе вообще мог бы и не состояться.
Однако общественное единение вокруг целей и задач модернизации уже следующим поколением воспринимается далеко не однозначно. Причем здесь важно даже не столько недовольство модернизацией или сопротивление ей в ходе самих реформ. А это имело место в обоих случаях. Можно вспомнить прокламацию «Барским крестьянам от их доброжелателей поклон» Н.Г. Чернышевского, адрес тверского дворянства 1862 года против положений крестьянской реформы, первые в истории России подпольные студенческие кружки, а также дискуссии в партийной среде и советской прессе о путях экономического развития, сопровождавшие сворачивание НЭПа и чистки в партийных и общественных (при всей их условности, как, скажем, профсоюзы) органах.
Важнее, скорее, негативная историческая память.
Так, воспоминания о Великих реформах их участников или современников, либо же дискуссии потомков об этих реформах сильно раскалывали общество: в последней четверти XIX – начале ХХ веков признаться в положительном отношении к Великим реформам означало причислить себя к либералам, причем довольно радикальным, явно оппозиционным власти. Консервативный же дискурс, особенно в своей реакционной составляющей, в качестве одного из элементов включал неприятие Великих реформ. И этот ценностный разлад, порожденный Великими реформами, настолько раскалывал общественное сознание спустя полвека, что вполне может считаться одной из причин падения существовавшего государства и скатывания страны в гражданскую войну.
В случае же со сталинской модернизацией негативные воспоминания в силу понятных исторических причин стали актуальными спустя 2 – 3 поколения, во многом заслонив все достижения и значение самой модернизации, а «правда» о сталинском периоде, неожиданно обрушившаяся на обывателя во второй половине 1980-х годов, стала одной из причин развала уже советского государства.
Тем самым, цели и задачи модернизации, объединявшие общество в момент пика реформаторских усилий, раскалывают то же общество спустя некоторое время после окончания реформ. А в сочетании с отказом власти (хоть риторическим, хоть фактическим) от продолжения реформ и отсутствием у неё внятной стратегии развития страны после модернизации – постмодернизационные периоды в жизни страны вполне можно определить как своего рода фрустрационные.
Всё это заставляет задуматься о том, как может выглядеть реальная, то есть по-настоящему эффективная, модернизация России, учитывая, что национальный опыт – а это и либеральный вариант модернизации, и жесткий сталинский – в исторической перспективе оказываются плохо работающими.
***
Помимо названных черт исторического опыта модернизаций, в контексте заявленной темы имеют значение и исторически сложившиеся в нашей стране особенности взаимодействия государства и общества. И эти особенности также являются весомым аргументом против модернизации на современном этапе развития России.
Одна из важнейших черт российского общества, возникшая в XIX веке и прекрасно чувствующая себя и поныне – это забалтывание и размывание смысла практически любого понятия, вброшенного властью в общество или существующего в общественном дискурсе независимо от интереса к этому понятию со стороны власти. Как известно, одни и те же идеологические явления разными людьми с примерно одинаковым успехом могут быть названы «консерватизмом», «либерализмом», «демократией» и так далее по списку. Одни и те же события могут трактоваться разными группами как «успех» или «провал». Кажется, этот тезис настолько очевиден, что даже не стоит утруждать себя примерами.
И если в XIX веке таким «забалтыванием» занималась наиболее политически активная (читай – либеральная) часть общества, то сейчас подобную функцию во многом выполняет экспертократия – многочисленный класс самых разнообразных экспертов по самым разнообразным вопросам.
Данная особенность кажется важной в силу весьма специфических взаимоотношений общества с властью. Сегодня довольно распространена точка зрения, популярная в России и в дореволюционный период, что власть как бы нависает над обществом, проводимая ей политика – это реализация неких абстрактных (или вполне конкретных и частных) интересов, а так называемое «общественное мнение» для нее – пустой звук. Причем этот тезис в равной степени разделяют люди самых разных, подчас противоположных взглядов.
Для людей, критически настроенных по отношению к власти (а это могут быть и левые, и либералы, и националисты) – это один из серьезнейших недостатков российской власти, из которого делались и делаются далеко идущие выводы – начиная от навязчивого аргумента об отсутствии свободы в России вплоть до проектов революционного переустройства страны.
Для большей же части условных «патриотов», лоялистов эта черта российской власти является ее несомненным достоинством, так как позволяет игнорировать оппозиционные силы, не обращая внимания на их активную публичную (и подпольную) деятельность, и действовать, исходя из общенациональных интересов, которые адекватно формулировать и распознавать может только она сама.
Понятно, что данный стереотип – о вне- и надобщественной природе российской власти и её политике – плохо применим к советской эпохе с её закрытым для дискуссий публичным пространством, однако как в дореволюционной России, так и сегодня он вполне устойчив. Насколько он верен – тема для отдельного разговора. Как представляется, в XIX – начале ХХ веков российская власть была в гораздо большей степени ориентированной на «общественное мнение», выражавшееся преимущественно в периодической печати, чем это принято считать. Причем это может оказаться справедливым не только для условно «либеральных» правлений – Александра I и Александра II, но и для условно «консервативных». Николай I, прочитавший все материалы по делу декабристов с целью понять, какие изменения и реформы желательны в России, ежегодные обзоры общественных настроений, готовившиеся в III Отделении, а со времен Александра III – в каждой губернии местными жандармскими управлениями, министр внутренних дел В.К. Плеве, начинавший свой день с чтения «Освобождения» – хорошее тому доказательство. На современном этапе «общественное мнение» заметно усложнилось по сравнению с XIX веком, однако, очевидно, что определенное число общественных деятелей оказывало прямое или опосредованное влияние на государственную политику.
Так или иначе именно названный стереотип парадоксальным образом развязывал до революции и развязывает сегодня руки – и языки – всем участникам общественной дискуссии, позволяя снять с себя ответственность за содержание самих дискуссий: какая разница, что, как и с какой целью говорить, если это не оказывает никакого воздействия на власть. Чем радикальнее и ярче выступить – тем лучше для собственной, общественной, публичной репутации. Соотнесение с реальностью – в этой логике – дело десятое.
При этом подобная безответственность общественных дискуссий получается обоюдо-удобной – как для видных представителей самой общественности (так как позволяет им набирать очки в борьбе за популярность), так и для власти в целом, давая последней возможность игнорировать общественность там, где это покажется нужным.
Поэтому начавшееся не так давно на государственном уровне обсуждение различных концепций развития экономики страны при переходе на уровень общественных дискуссий грозит «забалтыванием» концепций, размыванием их сути, а – впоследствии – общественным недовольством любым из выбранных вариантов. Свою роль в подобном развитии событий играет и отсутствие постоянно действующих на самом высоком уровне институтов диалога государственных органов с обществом – которые воспринимались бы в самом обществе как понятные и стабильные репрезентанты власти. В силу чего практически любое заявление представителей государственной власти тут же получает множество толкований в самом обществе и, по сути, тут же обесценивается.
Еще один момент, на который стоит обратить внимание. Исторически вес реформ, которые не сопровождались общественными дискуссиями и оказались, по большому счету, обойдены вниманием и современников, и потомков, нередко оказывается выше их собратьев, более известных обществу. Скажем, социальные реформы Александра III (в первую очередь, рабочее законодательство, которому в учебниках по истории обычно посвящен один небольшой абзац) в общем информационном пространстве «утонули» на фоне обсуждения его «контрреформ». Хотя, видимо, улучшение условий жизни рабочих и обеспечение их минимальным набором прав было ничуть не менее значимым для страны, чем изменение правил выборности земцев, известных всем под названием «земской контрреформы». Другой пример. Фабричная инспекция – институт, реально работавший на улучшение нужд рабочих в последней четверти XIX века и выполнявший в условиях самодержавной власти, по сути, функции профсоюза – мало знаком широкой общественности и школьным учебникам по истории, а в научной историографии удостоился только одной полноценной монографии 3.
Характерно, что именно попытка привлечь общественность к выработке мероприятий по развитию крестьянского – и в целом сельского – хозяйства в первые годы ХХ века министром внутренних дел В.К. Плеве перевела этот вопрос из практического русла в формат длительных дискуссий, оборвавшихся с убийством самого министра. П.А. Столыпин, осуществивший масштабную крестьянскую реформу, как считают некоторые историки, всего лишь воспользовался наработками периода Плеве. Однако реформа Столыпина – и в этом, видимо, одна из важных причин её успеха – была осуществлена не только в обход общественности, но и вопреки ей.

И, пожалуй, еще одно важное обстоятельство. Как известно, исторически основным организатором и проводником реформ в России было государство. На протяжении последних двухсот лет сложно найти пример какой-либо реформы или менее масштабного преобразования, разработанного общественными силами без инициативы и без участия в той или иной (даже – негласной) форме государства или тех или иных представителей бюрократической элиты. Не на уровне лозунга (по типу – «скорее отменим крепостное право» или «требуем ответственного перед Думой министерства»), а на уровне полноценного проекта, готового к реализации.
Это нередко ставится в упрек государству – в том смысле, что власть не дает общественности возможности и пространства для самодеятельности. Однако, как представляется, и здесь наиболее очевидный аргумент не вполне отражает действительное положение дел. Скажем, движение чартистов в Англии, начавшись с низового протеста, смогло путем постоянного, целенаправленного давления донести до власти свои требования. В России же ни одно общественное оппозиционное движение не может похвастаться таким успехом – и не только, как представляется, по причине особой репрессивности российского государства, давящего либо игнорирующего любую общественную активность, но и, скорее, в силу некой беспредметности и абстрактности запросов, формулируемых самой общественностью, а также отсутствия навыка длительного и планомерного давления на власть, при этом без скатывания в революционную риторику. С самого момента своего зарождения общественное движение в России формулировало преимущественно масштабные проекты переустройства страны, претензии к государству как таковому и мечтало о его тотальном переустройстве. Это и декабристы, и петрашевцы, и А.И. Герцен, и Чернышевский, и либеральные земцы, и народовольцы и так далее.
Российское общество и как некая целостность, и как совокупность отдельных социальных групп (бизнес, бюджетники, менеджеры и т.д.) плохо умеет формулировать собственные интересы и отстаивать их на относительно длительных временных отрезках.
Причем подобное неумение общества, казалось бы, выгодное власти, на самом деле, играет ей «в минус». Ведь общество, являясь одним из основных ресурсов модернизации, в случае своего очевидного неучастия в определении ее целей и способов, всю ответственность за нее возлагает на власть. Ответственность не только за успехи реформ, но и за их неудачи.
И пока, с одной стороны, общество не осознаёт своих интересов, а его разные группы не способны соотнести свои «классовые» интересы с политическим представительством (пока исключением из этого правила являются некоторые бизнес-группы и в определенном смысле – чиновничество), пока общество не ощущает своей сопричастности власти, а с другой стороны – властью не простроены механизмы превращения общественных интересов в реальные политические практики – ответственность за любые масштабные (и не очень) реформы будет возлагаться на власть. В том числе – историческая ответственность, та, которая возникает не в момент проведения самих реформ, а позднее – после их завершения, после ухода от власти реформаторов, после смены поколений.
Эта неразделенная ответственность власти и с точки зрения актуальной политической повестки, и с позиции исторической перспективы – серьезное препятствие для движения страны вперед, для ее полноценного развития. И здесь дело уже не только в экономике, но и в судьбах страны в целом. Именно эта неразделенная ответственность за ведение войны спровоцировала Думу на жесткую оппозицию власти и, в конечном итоге, – на свержение монархии в 1917 году. Именно эта неразделенная ответственность за сталинизм позволила в конце 1980-х годов так легко перечеркнуть весь советский период и развалить СССР.
***
Сегодня и российскому обществу, и российской власти пора отказаться от стереотипов, тяготеющих над ними последние два столетия. Отказаться от громких слов (хоть о модернизации – с одной стороны, хоть о революции – с другой). Отказаться от мышления глобальными категориями, большими стратегиями и всеохватными задачами. Пора учиться жить в парадигме повседневных задач, но с пониманием общего пути развития страны, видимо, на основе какого-то, еще не созданного ценностного единства – как без мобилизационных технологий «большого скачка вперед», так и без засасывания индивидуальной и коллективной деятельности в бюрократической рутине.
В России второй половины XIX века была уже такая возможность. И давало эту возможность земство – институт, с одной стороны, объединявший в себе все самые активные общественные силы, а с другой стороны, лишенный признаков бюрократической волокиты. Институт, которому власть должна была доверить определенную сферу деятельности и уже не вмешиваться в нее.
Однако земство не выполнило ту роль, которую должно было выполнить. Более того, вместо стабильности и развития на местном уровне (а, значит, – на уровне жизни людей большей части страны) внесло разлад в жизнь общества и его взаимодействие с властью. И причина этого, на мой взгляд, достаточно проста.
Система взаимоотношений власти и общества второй половины XIX – начала ХХ веков была выстроена таким образом, что купировала легальные возможности для проявления политической активности. Власть упорно пыталась сориентировать политически активную часть общества на экономическую проблематику. Именно эта идея была положена в основу института земского самоуправления – идея, неоднократно потом подтверждаемая (в силу периодического превышения земцами своих полномочий) циркулярами Министерства внутренних дел. Согласно закону, земства должны были заниматься местными хозяйственными нуждами, не имея права обсуждать политические вопросы. Логика самодержавного государства понятна: политика – это не дело общественности, зато ее можно привлечь к другому делу (раз уж видные представители общества так стремятся к управлению чем-либо) – к управлению сложным, неоднородным экономическим пространством России. Однако именно это разделение – право на экономику без права на политику – и породило конфликт государства и институтов местного самоуправления (спроецировавшись в целом на конфликт власти и общества). И этот конфликт, без сомнения, стоит назвать одной из причин Первой русской революции.
Да, земства гордились основанными ими школами, созданными ими больницами, проложенными ими дорогами. Но мечтали земские деятели о другом – о праве на политические суждения и политическую деятельность, в первую очередь – о возможности влиять на выработку государственной политики на губернском уровне, «критически обсуждать действия губернской власти» – как писали жандармы в Департамент полиции практически из каждой губернии России.
Вероятно, в условиях второй половины XIX века такие настроения были действительно не слишком уместны, однако сегодня России не хватает именно этого. Общественного самоуправления, причем сконцентрированного не столько на хозяйственно-экономической проблематике, сколько на реализации прав и интересов местных сообществ, в том числе – на защите этих, весьма разнообразных, интересов от власти. Подобная «школа самоуправления», органически вырастающая снизу – как мечтали в свое время поздние славянофилы – помогла бы научить разные группы общества, во-первых, осознавать собственные интересы, а во-вторых, выражать их посредством представительства 4. Эта связка не может взяться из ниоткуда (также, как не может она неожиданно возникнуть на федеральном уровне), а требует той длительной и кропотливой работы, к которой так плохо приспособлено русское сознание.
Понятно, что такая форма отношений не может быть сугубо низовой, она не может быть навсегда или насильно замкнута на локальном, местном уровне, со временем она неизбежно выйдет на уровень общероссийский. Но за время самого пути столь же неизбежно изменится и само общество, и отношение к нему со стороны власти. Когда К.П. Победоносцев с ужасом писал Александру III, что проект Земского собора как особой русской формы представительства при императоре – это обманка, которая в случае своего учреждения приведет к западному парламентаризму, он был не так уж и не прав. В конечном итоге, Земский собор действительно привел бы страну к ограничению монархической власти и к парламентаризму. Только, скорее всего, не к западной его форме, а к какой-то другой, более органичной и для власти, и для общества в России. В истории с Земским собором важен не конечный итог, а сам путь, который могли пройти власть и общество – путь, роль которого не учитывал Победоносцев и который не имел для него никакого значения.
Так и здесь. Сам путь может оказаться важнее некого конечного результата: он сможет, с одной стороны, отучить общество от безответственных дискуссий и бессмысленных претензий к власти, а с другой стороны – приучить власть к тому, что у общества есть право и способность не только на безответственные разговоры, но и на вполне ответственную деятельность.
Notes:
- Семенникова Л.Г. Россия в мировом сообществе цивилизаций. Екатеринбург, 2005. ↩
- Об административной юстиции см.: Правилова Е.А. Законность и права личности: административная юстиция в России. СПб., 2000. ↩
- Володин А.Ю. История фабричной инспекции в России, 1882-1914 гг. М., 2009. ↩
- Подробнее об отсутствии этой связки см.: Игорь Задорин. «Партии, политическая система, выборы – мы должны идти дальше этих архаических моделей» // http://politconservatism.ru/interview/partii-politicheskaya-sistema-vybory-my-dolzhny-idti-dalshe-etih-arhaicheskih-modelej. ↩