2 июля 2021 года ушла из жизни Пиама Павловна Гайденко.
Увы, я не имел счастья лично знать Пиаму Павловну и все, что я могу сказать о ней, так или иначе обусловлено ее книгами, которые во многом сформировали мои взгляды.
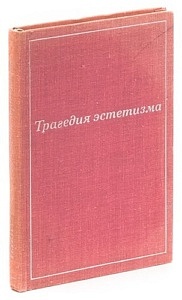 Я был на нескольких ее лекциях в МГУ, и, должен признать, лектор она была не выдающийся. Уже потом я заметил такую грустную закономерность: авторы ярких, блестяще написанных книг – очень часто довольно скучные преподаватели, и наоборот, кто тяжело пишет, кому нелегко удается владеть пером для изложения своих мыслей, великолепно читает лекции. Пиама Павловна была философским писателем от Бога, никто как она не умел сделать философскую мысль предметом острого, интеллектуально насыщенного и при этом почти художественного описания. Прочитав две ее ранние книги – «Трагедия эстетизма» и «Философия Фихте и современность» – еще на первом курсе университета я понял, что писать о философах надо именно так, как пишет Гайденко. Так чтобы читателю было понятно, вот на этом философе «сломался мир», на нем притормозила свой путь история человечества.
Я был на нескольких ее лекциях в МГУ, и, должен признать, лектор она была не выдающийся. Уже потом я заметил такую грустную закономерность: авторы ярких, блестяще написанных книг – очень часто довольно скучные преподаватели, и наоборот, кто тяжело пишет, кому нелегко удается владеть пером для изложения своих мыслей, великолепно читает лекции. Пиама Павловна была философским писателем от Бога, никто как она не умел сделать философскую мысль предметом острого, интеллектуально насыщенного и при этом почти художественного описания. Прочитав две ее ранние книги – «Трагедия эстетизма» и «Философия Фихте и современность» – еще на первом курсе университета я понял, что писать о философах надо именно так, как пишет Гайденко. Так чтобы читателю было понятно, вот на этом философе «сломался мир», на нем притормозила свой путь история человечества.
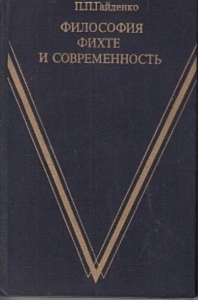 Собственно говоря, каждый философ – это тот человек, на котором замедляется время, «ломается мир», но, к сожалению, совсем не каждый историк философии оказывается способен это продемонстрировать. Иногда и не возникает такой потребности. Гайденко это делать умела, умела блестяще, и потому ее историко-философские работы, включая, кстати, и те, что были посвящены русскому Серебряному веку, Вл. Соловьеву и метафизике всеединства, читаются почти как интеллектуальные триллеры.
Собственно говоря, каждый философ – это тот человек, на котором замедляется время, «ломается мир», но, к сожалению, совсем не каждый историк философии оказывается способен это продемонстрировать. Иногда и не возникает такой потребности. Гайденко это делать умела, умела блестяще, и потому ее историко-философские работы, включая, кстати, и те, что были посвящены русскому Серебряному веку, Вл. Соловьеву и метафизике всеединства, читаются почти как интеллектуальные триллеры.
Я не так много знаю об идейных воззрениях покойного философа, в своих интеллектуальных биографиях она не заслоняла своих героев, не пыталась продавить за счет них свою собственную точку зрения. Вроде бы она считалась, как и ее покойный супруг Юрий Николаевич Давыдов, консерватором. Отец один раз мне передавал ее одобрительный отклик по поводу какого-то моего антиболотного радиовыступления, что, с одной стороны, было приятно, с другой, немного грустно: от мэтра и безусловного авторитета в области истории философии, конечно, хотелось услышать доброе слово по поводу совсем иных моих занятий.
Наверное, знаток трудов Пиамы Павловны сможет более взвешенно и объективно сформулировать ее философское кредо. Я в данном тексте на объективность не претендую и попытаюсь очень кратко сказать, что в ее книгах на меня произвело такое сильное впечатление и что сыграло свою роль в формировании моего консервативного мировоззрения.
Начнем с первой прочитанной мной книги Гайденко, которую я как будто даже случайно вытащил из отцовской библиотеки. Это была книга о Кьеркегоре «Трагедия эстетизма» (с подзаголовком: опыт характеристики миросозерцания С. Киркегора) в такой кирпичного цвета матерчатой обложке. Книга вышла в свет в 1970 году, но прочитал я ее семнадцать лет спустя ее появления – в 1987, и даже тогда нельзя было не поразиться способности автора писать о религиозном мыслителе, без обязательного цитирования классиков марксизма и указаний на реакционность взглядов описываемого мыслителя.
Книга, однако, поражала не только этим. Она как будто идеально точно совпадала с ощущениями и переживаниями того времени, давая этому времени определенный разворот. Такая перекличка между концом шестидесятых и концом восьмидесятых была отнюдь не случайна: 1987 год был своего рода ностальгическим возвращением к 1968 году, с его одновременно пражской и парижской кульминациями. «Социализм с человеческим лицом» + молодежный бунт и «рок-революция». Площади и бульвары Москвы в тот год заполонили длинноволосые пацаны и девушки, которые становились немедленно героями популярных телепередач. В кинотеатрах шли фильмы о молодежи: «Курьер», АССА, «Легко ли быть молодым» и пр.
«Трагедия эстетизма», как и многие другие работы П.П. Гайденко и ее второго супруга Юрия Николаевича Давыдова, которые они писали порознь и совместно в 1970-е и последующие годы, конечно, писались в расчет на этот этот контекст – контекст 1968 года: они хотели показать своего рода опасность, тупиковость пути, по которому пошла западная молодежь и левая философская мысль, которая стала провоцировать молодежь на столкновение с системой.
Если Ю.Н. Давыдов выбрал предметом своей критики философию и социологию неомарксизма, то Пиама Павловна пошла чуть дальше в постижении истоков романтического бунта и увидела эти истоки в проблемах немецкой классической философии, не решенных самой этой философией и во многом предопределивших кризис западной модели рационализма и, соответственно, кризис всего западного общества. Учитывая, что советское общество постепенно и неуклонно вестернизировалось, этот кризис не мог обойти и его стороной, что, собственно, и подтверждал наглядно тот самый 1987 год.
Смысл книги «Трагедия эстетизма» схематично можно изложить так. Иммануил Кант резко противопоставил мораль и теоретическое знание, тем самым сделав мораль отвлеченной и бесплотной, а познание духовно опустошенным. Однако он сам своей третьей критикой – «Критикой способности суждения» – позволил романтикам обнаружить именно в эстетическом начале присутствие трансцендентного, связь с которым утратил вынужденный пребывать лишь в мире профанного опыта теоретический разум. В итоге, уже у Канта, а потом и у романтиков эстетическое начало как бы эмансипировалось от разума и морали, оказалось им противопоставлено, причем у ранних романтиков не в пользу последних. Именно в искусстве, точнее в красоте, западный человек нашел Бога, не пожелав найти Его в морали и отчаявшись обнаружить следы Его присутствия в мире посредством науки или теоретической философии. Вот эта «эмансипация эстетического» и есть главный вывих эпохи Просвещения, главная родовая проблема немецкой классики, которая потом прорвется мощным антихристианским выплеском в философии жизни, ницшеанстве и, наконец, в том соединении ницшеанства, фрейдизма и марксизма, который послужит теоретическим основанием молодежного бунта и контркультуры.
 Гайденко, однако, не сосредотачивалась на этой линейной схеме, но описывала тех героев, кто, сознавая все гибельные последствия «эмансипации эстетического», пытался развернуть западную мысль в каком-то другом направлении, отведя ее от пропасти. Отсюда и то напряжение, которое она передавала своим интеллектуальным биографиям – это напряжение водителя, который ищет пути, как увести свой автомобиль от бездны, к которой неуклонно влечет его дорога.
Гайденко, однако, не сосредотачивалась на этой линейной схеме, но описывала тех героев, кто, сознавая все гибельные последствия «эмансипации эстетического», пытался развернуть западную мысль в каком-то другом направлении, отведя ее от пропасти. Отсюда и то напряжение, которое она передавала своим интеллектуальным биографиям – это напряжение водителя, который ищет пути, как увести свой автомобиль от бездны, к которой неуклонно влечет его дорога.
Кьеркегор, в изображении Гайденко, был одним из таких водителей. С одной стороны, он был буквально пропитан духом романтизма, духом иронии. Этим, по мнению Пиамы Павловны, объясняется тот факт, что для каждой новой книги он выбирал новый псевдоним – за различными масками он скрывал свое подлинное лицо, ироничное ко всем высказанным им словам. С другой стороны, он видел, что романтизм, то есть мировоззрение, основанное на примате эстетического начала, приводит к экзистенциальной катастрофе. Человек, избравший эстетическое переживание главным критерием для жизни, неизбежно утрачивает самого себя в вечном поиске Другого. Доказательству этого тезиса и посвящена одна из главных книг мыслителя, которая известна под сокращенным названием «Или/или». Человек должен совершить переход от эстетического начала к началу этическому.
В контексте экзистенциального выбора это означало отказаться от ветреной юности во имя супружеской жизни. Кьеркегор, как известно, поначалу так и поступил, но потом он посчитал, что есть что-то выше супружества, а, соответственно, и выше морали, и это состояние есть одиночество, на которое обречен каждый, кто отваживается избрать веру. В итоге, он отказался от невесты, нарушив обещание. Пафос Гайденко состоял в том, что вот это финальное отречение от этического, которое датский философ провозгласил в трактате «Страх и трепет», и которое он скандально реализовал в своей жизни, на самом деле было ничем иным, как парадоксальным возвращением к эстетическому, то есть возвращением к непреодоленным внутри самого философа романтизму и иронии. В итоге, эстетическое осталось непобежденным, и вот именно это Гайденко и назвала «трагедией». Одолев демона «эстетизма», Кьеркегор тут же воскресил его под маской религии и веры, объяснив этими категориями уклонение от моральных обязательств.
Не буду говорить, что интерпретация Кьеркегора в книге Гайденко мне кажется стопроцентно убедительной и исчерпывающей. Сейчас речь о другом. Гайденко поставила действительно самую актуальную для нашего поколения проблему – проблему отношения к «эмансипации эстетического», которая и в самом деле нашла такое ясное выражение во всей континентальной философии, как она до последнего времени была представлена на рынке идей. Я хорошо помню, что нашему поколению нравилось, да и продолжает до сих пор нравиться на Западе. Нравились отнюдь не права человека, тем более не права меньшинств, не толерантность, но и не пуританизм, воскресные школы, евангельские песнопения и призывы к милосердию. Нравилось разбуженное контркультурой воображение, нравились фильмы ужасов, тяжелый рок, нравилось все немного пронизанное ницшеанством, мощное, сильное, грубое, декадентски извращенное, выходящее за пределы норм морали и принятых в обществе правил поведения. Борис Гройс когда-то написал эссе «Россия как подсознание Запада», это положение можно перевернуть, поскольку и Запад всегда присутствовал в нашем подсознании, начиная еще с романтизма XIX, с характерным для него культом Байрона, своей демонической, пугающей и в то же время привлекательной стороной. В этом смысле книги Гайденко читались как призыв совладать с собственным подсознанием, которое, несмотря на все политические мотивы и ограничения, будет толкать нас в сторону Запада, в котором мы, честно говоря, ищем обнаружить нашу собственную Тень, подобно тому, как Запад в свою очередь издавна искал свою Тень в России. Тень в юнговском смысле – все то, что мы тайно любим, но что считаем морально не дозволительным любить.
Итак, по мнению Гайденко, исток кризиса западного рационализма лежал в отделении эстетического начала от разума и морали, что и позволило затем мыслителям разных направлений увидеть в красоте основание свободы. Вся философия XIX века в этом смысле попытка снова закрепостить «эстетическое», вернуть его в тот органический союз с Истиной и Добром, который можно было бы назвать «всеединством». Насколько я понял концепцию Гайденко, западной мысли сделать это категорически не удалось, но русская философия, в которой, как она считала, разворачивалась та же война, нашла все же какие-то пути выхода из данного кризиса. Не буду подробно останавливаться на этом сюжете, хотя, уверен, что он требует отдельного и внимательного разговора.
Важно сейчас подчеркнуть другое. Наш современный консерватизм – во многом плод ницшеанского разочарования в ницшеанстве Запада. Запад оказался не настолько инфернален, как это представлялось по фильмам Стэнли Кубрика или Романа Полански. Он оказался проще, прозаичнее, буржуазнее и толерантнее, чем мы бы того хотели. Конечно, называть современную Европу «этическим рейхом», по примеру известного режиссера, было бы слишком лестным преувеличением, но это, конечно, и не Флоренция эпохи династии Борджиа. В русском консерватизме еще со времен Константина Леонтьева сквозило вот эстетическое разочарование в оказавшемся не слишком уж безнравственном Западе, тем более что сегодня эта нравственность предстает в каких-то совершенно отталкивающих образах типа постоянно навязываемых нашему вниманию трансгендеров. Пиама Павловна и Юрий Николаевич представляли, конечно, совершенно иной – прямо скажем, не константино-леонтьевский – вариант русского консерватизма. И в этом, на мой взгляд, гораздо более мудром и глубоком варианте консерватизм был направлен не столько против влияния Запада, сколько против того, что в нас самих заставляет искать этого влияния и поддаваться ему.
 В конце концов, мы не знаем, какую дорогу изберет Запад. Не исключаю, что эта «новая этика», о которой так много говорят, есть в том числе попытка освободиться от власти разного рода «сверхчеловечков» типа Харви Вайнштейна, которые слишком заигрались в собственное могущество. На каких-то секулярных основаниях преодолеть болезненную зависимость от ницшеанства. Лично я не очень верю, что Западу удастся подчинить общество «разбуженного воображения» нормам кантианской морали, «зло» обязательно воскреснет и снова начнет захватывать умы, подобно не умирающим монстрам в многочисленных фильмах ужасов. В этом смысле те проблемы, которые ставят книги Гайденко, никуда не исчезли, просто не все из этих проблем решаются каким-то политическими мерами, типа изоляции от Запада.
В конце концов, мы не знаем, какую дорогу изберет Запад. Не исключаю, что эта «новая этика», о которой так много говорят, есть в том числе попытка освободиться от власти разного рода «сверхчеловечков» типа Харви Вайнштейна, которые слишком заигрались в собственное могущество. На каких-то секулярных основаниях преодолеть болезненную зависимость от ницшеанства. Лично я не очень верю, что Западу удастся подчинить общество «разбуженного воображения» нормам кантианской морали, «зло» обязательно воскреснет и снова начнет захватывать умы, подобно не умирающим монстрам в многочисленных фильмах ужасов. В этом смысле те проблемы, которые ставят книги Гайденко, никуда не исчезли, просто не все из этих проблем решаются каким-то политическими мерами, типа изоляции от Запада.
Многое, что мы хотим и боимся обнаружить на Западе, таится в нас самих. Та «трагедия эстетизма», которая сломила Кьеркегора и о которой рассказала Пиама Гайденко, разворачивается и в нашем собственном Отечестве, да, собственно, в каждом вообще отдельном человеке, в сердце которого, как известно, борются Бог и дьявол. Но чтобы участвовать в этой борьбе, мне кажется, надо рассказывать про историю мысли так, как это и делала Пиама Павловна, с чувством, что на философии «надломился мир». Тем более, что мир и в самом деле «надломился».
_______________________
Наш проект можно поддержать.


3 ответа к “Памяти историка философии”
Читайте, интересно Ваше мнение.
Я нисколько не философ, а вся моя философия это институтский курс марксизма-ленинизма, но почитать было интересно. Особенно что касается отрыва “тела” от “дела”. В новые времена даже в литературе поэзией стало считаться не только собственно стихи и иное творчество как продукт, но и сама жизнь поэта, жизнь артиста, которая стала относиться к его творчеству. В философии возможно с самого начала требовалось особая идеологическая целостность бытовой жизни философа с его воззрениями на жизнь для других. Люди это придирчиво оценивали. Отсюда, на мой взгляд, и рассуждения о “борьбе” эстетического и этического в жизненных решениях неизвестного мне Кьеркегора. С моей же философски нищенской точки зрения на основе единственно верного и единственно известного мне учения бытие определяет сознание и соответственно разрыв в некоторых (не всех) этических нормах в разных слоях общества диктуется различием условий жизни и возможностей. Он не революционный, но он существует. Совершенно идеологически целостной этической системы для всех слоев общества не бывает. Есть, как говорится, нюансы, о которых любил рассуждать великий философ современности мистер Дулитл. Оставление себя в “ветренной юности” это следствие своей свободы и возможности в ней оставаться, выбор доступного комфорта для тела. Тоже самое относится к разным обществам мирового сообщества, где условия существования (бытия) существенно разняться и соответственно и целесообразности той или иной системы ценностей отличаются. Жизненный комфорт ам. жизни, отсутствие необходимости заботиться о демографическом благополучии на уровне государственном (бабы в Европе, Лат. Ам. и Азии еще нарожают) создают условия освоения новых уровней жизненного комфорта, что требуется для развития потребностей и потребителей при капитализме, а заодно для создания удобной трудовой армии прочно расколотой новыми множественными и произвольно рисуемыми разграничительными линиями. Да-с! Се ля суровая, теперь уже внеклассовая, жизнь! Но скажем им решительно нет, но пасаран или по-русски “А хрен им!”. Это и есть лозунг нашего бытия и нашего консерватизма, нашего права на наше суверенное бытие и суверенное сознание. Ну и, конечно, привет Кьеркегору!
К сожалению здесь тексты невозможно править и, хотя здесь все равно никого не бывает, но корректности ради внесу поправку в свой предыдущий пост. Оказалось, что даже Яндекс не знает того Дулитла, правильно Дулиттла, которого знаю я. Для любопытствующих надо искать Альфреда Дулиттла, знаменитого оратора из Лиги моральных реформ.
Что касается феномена неинтересного преподавателя, но замечательного исследователя, то, к сожалению, у меня много что есть сказать по этой теме, когда если ты отвратительный оратор, но значительный исследователь, то рискуешь никогда не защитить свою научную работу и подтвердить тем свою научную квалификацию. Пиаме Павловне повезло, она состоялась и ее жизнь состоялась. Моей ученице в этом смысле не повезло и я очень хорошо понимаю эту ситуацию как научную проблему именно для современной науки. Ньютон в течение своей жизни не смог выиграть ни одной научной дискуссии, а после него осталось много анекдотов о его чудачествах в быту. На самом деле это типичный ученый в представлении других людей как это было до наступления 20 века, когда ученый занятый постоянным углублением за пределы существующих знаний впадает в частичный аутизм, который он с трудом повседневно пробивает, чтобы не потеряться в своем замкнутом мире окончательно. В 20 веке создали другой тип ученого типа Резерфорда, который требовал от ученых своей школы, чтобы они могли даже уборщице объяснить то, чем они занимаются. Это было необходимо для создания научных коллективов совместно решающих крупные проблемы, в частности я. оружия и я. энергетики. Одновременно требование Резерфорда стали применять как требование для ученого и преподавателя высшей школы. Если ты этому требованию не соответствуешь, то тебя могут не аттестовать как ученого и в этом проблема. Ньютоны этому требованию категорически не соответствуют.