РI: Постоянный автор нашего издания, историк и журналист Илья Смирнов в своей новой статье представляет читателям только что вышедшую в свет книгу: Смута в России и Потоп в Речи Посполитой. (М.: Древлехранилище, 2016), подготовленную российскими и польскими историками, и посвященную очень схожим между собой событиям нашей истории – увы, тем самым событиям, которые положили начало не самым дружелюбным отношениям наших народов. Возможно, сегодня наступило время, когда мы можем начать откровенно говорить об этих болезненных сюжетах, чтобы спокойно в них разобраться.
***
Теория катастроф – раздел математики, который занимается такими радикальными изменениями, когда система «вынуждена скачком перейти в далекое от исходного состояние… Такого рода перескоки и получили название катастроф, так как они связаны с резкими изменениями в состоянии системы и могут приводить к её разрушению» (В.И. Арнольд).
Соответствующий математический аппарат с успехом применяется в естествознании и технике. Но не в гуманитарных науках. Социальная система слишком сложна, чтобы просчитать ее развитие, поэты в роли предсказателей будущего намного убедительнее профессоров, а если обратить взгляд в прошлое, то историческая истина конкретна, и всякое несчастливое государство несчастливо по-своему.
Опыт несчастий ХVII века представляет нам издательство «Древлехранилище» в книге с выходными данными, продублированными в соответствии с представлениями той далекой эпохи о высоком учёном стиле: «Turbae in Russia et Diluvium in Republica Polona: exempla superationis discriminis politici. Chartophylacium, MMXVI».
Толстый академический том составлен на основе материалов российско-польской научной конференции, а между работами 26 исследователей вложено нечто вроде программки богатого московского театра, только на ней не сцены из спектакля, а репродукции батальных полотен. Можно подобрать для такого издательского украшения аналогию из самой книги: шкура дикого зверя или «чёрное крыло» в гусарском снаряжении ХVII века (с. 285)
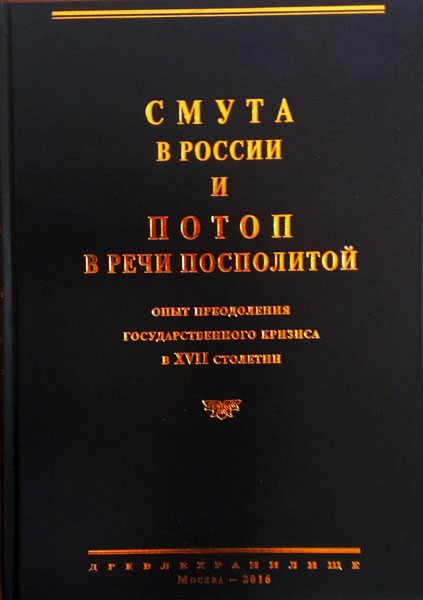
Кому-то, наверное, кажется, что сейчас не лучшее время для сотрудничества именно с Польшей. По-моему, наоборот: наука (как и искусство) дело общечеловеческое, и когда ещё, если не в затруднительной ситуации, она могла бы способствовать взаимопониманию народов на основе реального знания.
В высокой оценке Д.М. Пожарского совершенно не расходятся Юрий Моисеевич Эскин, автор «первой за 150 лет научной биографии российского национального героя» (с. 70) – и польский историк Хероним Граля:
«князь Дмитрий Михайлович Пожарский, человек чести и принципов, который никогда не запятнал себя никаким недостойным поступком, что признавали за ним даже враги. Настоящий московский Баярд» (с. 30)
Почему? Наверное, потому что источники не дают оснований для иных суждений.
Смута российская у всех ее граждан на слуху, особенно после того, как торжественно отмечался 400-летний юбилей не финального, но ключевого её события: освобождения Москвы от оккупационного гарнизона, который мы назовём «польским» при всей условности подобного определения (см. об этом чуть ниже), и был учрежден новый государственный праздник 4 ноября.
Само событие, безусловно, достойно выходного дня. К сожалению, при установлении конкретной даты законодатели неприлично запутались в календарях (тогдашнем юлианском и нынешнем григорианском) и в элементарной арифметике – как будто нарочно, чтобы продемонстрировать «явный регресс исторического знания» (с. 11) и подтвердить мнение, что подвиг Минина и Пожарского был просто использован для сведения счётов с ненавистным праздником Октябрьской революции.
Потоп в Речи Посполитой известен у нас разве что старшему поколению благодаря кино-блокбастеру Ежи Гофмана. А в Польше этот термин привязывается к шведскому вторжению в 1655 году, хотя оно произошло не само по себе, а в результате последовательного развития взаимосвязанных событий:
(1) восстания Богдана Хмельницкого;
(2) перехода православного населения в подданство московского царя ”под его государскою оборонною высокою рукою” ;
(3) войны с Россией, поначалу настолько неудачной для Речи Посполитой, что по ходу её –
(4) Карл X Густав Шведский как раз и озаботился судьбой польских и литовских земель, которые могли достаться Алексею Михайловичу.
Хероним Граля указывает такие «несомненные общие черты» Смуты и Потопа:
Продолжительность кризиса, в первом случае 15 лет, во втором – 11 (а если считать от начала казацкого восстания, то получается и все 18);
Один и тот же состав государств участников, «причем, вопреки особенностям общественной памяти, модель кризиса в обоих случаях нельзя признать биполярной»;
В обоих случаях под серьезную угрозу было поставлено само существование государства;
Сходный сценарий: внутренняя дестабилизация, интервенция соседних государств, кризис монархической власти, потеря столиц, попытка преодоления кризиса путем избрания иностранного монарха (с. 15-16).
Объединяет эти два события ещё и то, что они породили очень похожую (по сути, зеркально отраженную) мифологию. В польском её варианте «на стороне Добра в этой войне стояли правоверные католики, верные слуги Марии, на стороне Зла – иноверцы…, еретики и отступники»; в российском Смута трактуется как «латинский заговор», «от начала до конца одна большая ляшско-иезуитская интрига с целью погубить Русь и Православие» (с. 45, 47).
Представленные в сборнике материалы не только не оставляют места для подобных «биполярных моделей», но и побуждают к большой осторожности в употреблении любых современных обиходных терминов.
Помните оговорку по поводу польского гарнизона в Москве?
Тот король, чей это был гарнизон – Сигизмунд III Ваза, вообще-то швед, враждовавший со своим отечеством не меньше, чем с Россией. А его государство, Речь Посполитая – федерация из двух частей, королевства Польского и «великого княжества литовского и русского». На протяжении двух столетий Литва Гедиминовичей представляла собой альтернативный (по отношению к Москве) центр собирания распавшегося мономахова наследия в противостоянии с Ордой.
«Явились и вырастали на Руси два государства — Москва и Литва, стало два государя — московский и литовский… Русь, таким образом, разделилась на две половины» (Н.И. Костомаров)
Поэтому в польско-литовских источниках и употребляется слово «москва» в качестве этнонима, изначально это не оскорбление (как «москаль» на современной Украине), а попытка терминологически отделить своих русских (православных подданных короля) от чужих, заграничных.
В самых разных статьях сборника и по самым разным поводам мы сталкиваемся с одной и той же ситуацией. «Поляки» и «католики» вдруг оборачиваются какими-то другими персонажами, как в известном детском стихотворении Б. Заходера «Кит и кот». Вот заголовок статьи Анджея Гжегожа Пшепюрки: «Поляки на службе самозванцев». В самой статье читаем «Сторонники Самозванцев отличались между собой по этническому происхождению и вероисповеданию. Большинство из них – Вишневецкие, Ружиньские, Тышкевичи и Сапега – происходило из русской (русинской) шляхты» (с. 184), причем князья Адам Вишневецкий и Роман Ружиньский являлись «ревностными защитниками православия».
Тем более это характерно для подчиненных: «у нас в рыцарстве большая половина русских людей» (Я.П. Сапега). Как отмечает Х. Граля, «на нужды «димитриад» солдат вербовали в основном на русских землях Короны» (с. 45). Возьмем для примера (чтобы оценить соотношение) статью Анджея Адама Маевского «Последний поход на Москву». Финальный аккорд Смуты: «16 сентября 1618 года королевич выступил из-под Можайска … Силы с ним шли небольшие – максимум 7000» (с. 263) Но ему на помощь немедленно привел 18 000 человек – кто? Гетман Петр Сагайдачный, представленный в Википедии как «меценат православных школ» (в данном же случае меценатство выразилось в том, что он «много православных крестьян и з женами и з детьми посек неповинно, и храмы Божия осквернил и разорил»).
Следует учитывать еще одно важнейшее обстоятельство времени и места. В то время, как Англия и Франция успешно завершали процесс централизации и формирования национальных государств, в Речи Посполитой, наоборот, усиливалась феодальная раздробленность в ее классических, в стиле XI -XII веков, формах, вплоть до права частной внешней политики и частной войны.
«Земля в Литве волная, в коей кто вере хочет, в той и пребывает»… «я поляк, человек народа вольного, привык говорить свободно…» «а людям в государя нашего государстве есть поволность из давних лет, кто кому захочет служить…» и т.д.
Мероприятие по проталкиванию на московский трон Лжедмитрия I предстаёт перед нами как частная (местами сугубо коммерческая) инициатива группы магнатов, прежде всего князей Вишневецких и состоявшего с ними в родстве сандомирского воеводы Юрия Мнишка. Католиков вперемешку с православными и даже протестантами. То же можно сказать и про вторую «димитриаду», тушинскую.
Рациональной альтернативой стало приглашение в Москву вышеупомянутого королевича (Владислава). Подчеркиваю. Подобное решение изначально не содержало в себе ничего изменнического. Для того времени коронованный гастарбайтер скорее правило, чем исключение.
Согласованные условия призвания королевича: «рускую веру вашу ни в чём ненарушимо держати», сохранять традиционные порядки, включая монополию местной знати на руководящие должности (государь не мог их передавать своим землякам, и вообще ему следовало “советывать з бояры и з землею“) – всё это вполне соответствовало тогдашнему международному феодальному праву и не наносило никакого ущерба интересам России, но, напротив, открывало перспективу выхода из кризиса без потери лица для всех сторон.
Но ситуацию принципиально изменило решение короля Сигизмунда воспользоваться слабостью восточного соседа и получить сразу всё: взять власть самому, минуя сына и безо всяких условий. Сигизмунд Ваза – убеждённый сторонник католической Контрреформации. Это одна из причин, почему он потерял Швецию. Естественно, такой человек не склонен был идти на уступки какой-то другой, некатолической религии.
Если до осени 1610 года мы видим в России гражданскую войну с участием внешних сил, то дальше начинается прямая иностранная оккупация, и вопрос ставится о выживании социального организма, именуемого Московским государством.
Найдёт ли этот организм силы для сопротивления?
Не найдёт – перестанет существовать как государства инков или ацтеков. Даже если абстрагироваться от всяких эмоций и подходить к вопросу сугубо прагматично, нельзя не отметить: то, что мы знаем о дальнейшей судьбе русских (т.е., в тогдашнем понимании, православных) подданных Речи Посполитой, не даёт оснований считать присоединение к этому государству выгодным для среднего жителя Рязани, Вологды или Москвы.

Между прочим, в самой же польской литературе было принято (и даже вошло в школьные учебники) представление о Сигизмунде как о персонаже отрицательном, поскольку он «торпедировал мудрые начинания», потребовав «московскую корону для себя» (с. 401). Подобные оценки мы видим и в рецензируемом сборнике (например, у Мирослава Нагельского, с. 147), и главное: на его страницах отмечается «быстро прогрессирующая католизация» правящего класса в Речи Посполитой (с. 23) как раз после 1618 года.
Французский инженер Гийом де Боплан накануне восстания Богдана Хмельницкого наблюдал, как религиозное противостояние приобрело классовый характер. Католичество стало “панской верой“, а по отношению к православным крестьянам «сеньоры пользуются безграничной властью не только над имуществом, но также и над жизнью; столь велика свобода польской знати (которая живёт словно в раю, а крестьяне пребывают как бы в чистилище)… Наиболее смелые убегают в Запорожье. ”
Вот вам и причины Потопа, вполне объективные.
К сожалению, марксистская историография доводила классовый подход до крайности и переносила в XVII век такие формы социального протеста, которые характерны для XIX – XX веков. И сейчас исследователи под давлением источников вынуждены отстраняться от умозрительной схемы «меньшие люди» против «больших» (см., например, статью Владимира Анатольевича Аракчеева о Пскове).
Но проблема социально-экономических причин тем самым не снимается, и ничем другим, более модным, они не заменяются. При всей религиозности наших предков, этот фактор в качестве универсальной отмычки не работает. Борис Николаевич Флоря обращает внимание на полнейшую неэффективность церковной пропаганды в первый период Смуты, когда «отлучение от церкви не помешало победе Лжедмитрия I, а канонизация царевича Дмитрия (реального – И.С.) не предотвратила возвышения и успехов Лжедмитрия II» (с. 58).
Ситуация меняется по мере того, как – цитирую другого автора сборника, Игоря Олеговича Тюменцева, – «замордованные на пытках, обесчещенные бесконечными надругательствами над женами и детьми посадские и крестьяне были вынуждены взяться за топоры…, они видели в еретиках-иноземцах главную причину своих бед» (с. 105), а собственная вера, соответственно, становилась знаменем освободительного движения и элементарного самосохранения. Так же, как католичество для поляков во время шведской интервенции.
Династические мотивы, конечно, тоже были важны, особенно в Московской Руси, где по крайней мере с правления Ивана III выстраивалась вертикаль власти под одного человека – конструкция твердая, но хрупкая. Пресечение легитимной династии Рюриковичей–Даниловичей не могло не стать серьезным испытанием для «массового политического сознания» (с. 133). Но ведь развал государства начался не на похоронах последнего наследственного монарха, Федора Иоанновича, а много позже, после климатической катастрофы, небывалого неурожая и голода, перечеркнувшего все достижения Бориса Годунова.
Что до Речи Посполитой, то туда беда пришла при вполне легитимном Яне Казимире Ваза, которому просто перестали подчиняться. В этом контексте особого внимания заслуживает феномен казачества: то, что в обоих государствах огромная масса людей выпала из легальных институтов, профессий и устоявшегося образа жизни.
Именно эта масса стала разрушительной силой по отношению к обществу, вытолкнувшему ее в «дикое поле», но она же на протяжении XVII столетия постепенно обретала самосознание (естественно, религиозное) и собственные представления о справедливом социальном устройстве, не обязательно утопические, их вполне реальным воплощением стали, например, рыбацкие и земледельческие республики староверов–некрасовцев.

Еще один сюжет сборника, который для многих читателей окажется неожиданным: выходцы из Речи Посполитой на московской стороне. Большой материал на эту тему собрал Александр Витальевич Малов. Среди соискателей царской милости мы встретим родовитого шляхтича Станислава Сандецкого, который «пришол к Москве при Ростриге с Маринкою да с Сендомирским невелик» (то есть, в юном возрасте), потом сопровождал царицу и Заруцкого, попал в плен, его должны были обменять, но он отказался и принял православие (с. 216). Два поляка и венгр из печально знаменитой грабежами и разбоями легкой кавалерии А. Лисовского перешли на русскую сторону и предупредили о готовящемся грабительском налёте на Суздаль (с. 230). Менял подданство и целый полк (700 человек) запорожцев Ждана Конши из армии Сагайдачного. А в его составе, знакомьтесь: Калина Григорьев Ицка – шляхтич иудейского вероисповедания, как такое могло быть, лично я объяснить затрудняюсь, но в источниках зафиксировано, как он, «покиня отца своего и мать и весь род и племя, и оставя все своим именья, и отрекся своей жидовской веры», за что получил из Казенного приказа русское платье на 25 руб., 8 алт., 1 ден., и еще много чего, включая высочайшую аудиенцию: Михаил Федорович «велел его поставить перед собою и дать свои царские очи видети» (с. 217).
Продолжение темы уже при следующем правителе династии Романовых – в статье Олега Александровича Курбатова «Неизвестная армия царя Алексея Михайловича».
«Выходцы из Речи Посполитой в XVII столетии стали главным источником пополнения русского служилого сословия и приняли активное участие в возрождении российской государственности и, в первую очередь, ее армии. Таким образом, в контексте нашего исследования слова великого Пушкина о русско-польском соперничестве: «сия семейная вражда» – приобретают в отношении, по крайней мере, XVII в. совершенно новый смысл» (А.В. Малов, с. 244)
Столь же парадоксальным оказывается и опыт преодоления катастроф, вроде бы, удачный в обоих случаях: и Россию, и Речь Посполитую удалось стабилизировать. У нас это было сделано на подчеркнуто консервативной (чтобы не сказать: реакционной) основе, «как при прежних государях», иноземное с порога отвергали как «еретическое», религию упорно сводили к обрядности, быту, «первому, что бросалось в глаза» (Орленко С.П. Выходцы из Западной Европы в России ХVII века. М:, Древлехранилище, 2004, с. 173) – то есть к этнографии, а совершенно необходимые преобразования оказались заторможены до конца столетия, когда Петру Великому пришлось их осуществлять в пожарном порядке «революции сверху».
На первый взгляд, гибкая политическая система Речи Посполитой была более приспособлена для извлечения уроков из печального опыта и могла обеспечить лучшие возможности для дальнейшего развития. Но вышло ровно наоборот, что признают и польские авторы (с. 25, 159, 163). «Вольность» в порядке привилегии для высшего сословия, которое почитало за «народ» только себя и действовало по принципу «в Коруне Польской люди вольные, ныне хотя то и учинят…, а впредь того в вольностях своих не сдержат”, оказалась не лучше, а хуже «централизации под властью самодержца». «В соперничестве верх взяла монархия Романовых» (162).
Как отмечал с нескрываемой обидой знаменитый польский историк Бенедикт Зентара, «одним из отличий осторожных реформ XVII века от бурного западничества Петра Великого было полнейшее игнорирование в ходе последнего польских образцов, ближайших и наиболее популярных среди российского дворянства, и обращение к примерам немецким, шведским, голландским, английским (в меньшей степени к французским), которым зачастую слепо подражали. Так русское государство и общество оказались принудительно втиснутыми в абсолютно чуждые их традициям схемы. Чуждость новых структур подчеркивало введение новых названий – преимущественно немецких – для должностей и учреждений. Новые города, со столицей во главе, также были окрещены по-немецки (Санкт-Петербург, Шлиссельбург, Петергоф, Кронштадт, Екатеринбург и т.п.). На уровне низшей администрации перевес получили немцы. Разрушились оживленные некогда контакты с Польшей и поляками. Польское общество и государство в XVIII веке утратило уважение русских, из-за своей слабости и усиливающейся отсталости стало предметом пренебрежения и презрения» 1.
Таким образом, конкретная история предостерегает от попыток подверстать прошлое под идеологические схемы, штампы «поточного сознания» типа «Запад нам поможет» – «Запад нам помешает»; и размашистые обобщения «все русские…» – «все поляки…» Они не работают даже на самом примитивном бытовом уровне.
Например, кто кого учил смелее выпивать в начале XVII века?
Оказывается, «пьянство москалям-русским последовательно приписывают только в XVIII – Х I Х веках», а до того призывы «Пейте во здравие ваше И пусть не будет сомнений! Бочку покуда вы сегодня не допьете, Не выйдет никто отсюда из вас» звучали совсем с другой стороны (с. 364). Процитированное поэтическое произведение «Пир краковский поляков с москвою» свидетельствует, что даже в самых сложных обстоятельствах люди выясняли отношения не только с оружием в руках.
Конечно, уже в то время имели хождение оскорбительные клише, в Речи Посполитой – про нас, в России – про них. Их вариант я мог бы воспроизвести из той же статьи Дариуша Хемперека (с. 361). Но зачем? Практически идентичный дежурный набор гадостей про русских «ватников» присутствует в современной публицистике наших же соотечественников, по недоразумению именуемых «либералами» (хотя лично я не вижу ничего особенно либерального в намерении «вернуть Крым» чужому государству вопреки воле подавляющего большинства крымского населения, такой образ мысли скорее феодальный). При этом люблинский профессор подчеркивает, что перед нами не подлинный образ восточного соседа, а пропагандистско-публицистический стереотип, порожденный различием культур, личной обидой и политическим интересом.
В противовес он приводит самые доброжелательные отзывы как о конкретных людях, так и в целом о стране и народе. Гусар Самуэль Маскевич вспоминал, что «любого ремесла мастер здесь (в Москве – И.С.) превосходный…, и такой разумный, что хоть чего в жизни не то что не делал, а не видел, но раз один раз увидев, сделает так славно, будто бы вырос на этом» (с. 355). А антропологи-любители с «Эха Москвы» выдают свои устрашающие галлюцинации за истину.
Так кто же свой, а кто чужой?
Если исторический опыт подменяется заклинаниями, в которых ни одно слово не имеет конкретного смысла 2 , а при решении современных проблем внимание настойчиво переключается на внешний фактор, например, на иностранцев–еретиков, то такая игра в переводного дурака не только не состоятельна с точки зрения этики или научной объективности, но и практически вредна, потому что дезориентирует людей, мешает распознавать тревожные симптомы и принимать меры, чтобы частные безобразия под окном не сливались в мутный потоп, размывающий целые отрасли и общество в целом.
Берем навскидку из свежих новостей: прямо сейчас происходит попытка захвата земель Тимирязевской академии – демонстративная и циничная. Кто это делает? Польские гусары? Морская пехота США? Нет, очередная Семибоярщина, точнее, Тринадцатибоярщина, по количеству чиновников, подмахнувших протокол об изъятии земли; кто-то из них выращен в семье партработника, кто-то в семье священника, но все свои, ни одного крестоносца–латинянина в этой теплой компании нет.
Подобные сообщества действуют и в Польше, например, под вывеской «Института национальной памяти», тоже из своих, без единого москаля-коммуниста, так же точно шаманят, притворяясь патриотами, и вредят своей же собственной стране. Но о них сподручнее сочинять фельетоны тем, кто ближе.
Внешние угрозы, конечно, тоже существуют, было бы смешно их отрицать, при неблагоприятном стечении обстоятельств они могут разрушить даже крепкий социальный организм. Пример из прошлого столетия – нацизм. Он не оставлял на планете места ни для России, ни для Польши. И в ХХI веке вполне различимы движущие силы глобальной катастрофы. Но они не привязаны ни к какой части света и в равной мере угрожают русским, полякам, американцам, вообще любому народу на Земле, поскольку самоопределяются через «освобождение» от всего человеческого, будь то семейная мораль, научная методология, социальная справедливость или «любовь к отеческим гробам».
А пока нам есть, что обсуждать, и мы свободны это делать, выскажу одно замечание по содержанию сборника. Его финал обращен не в прошлое, а в будущее: две статьи о том, как сюжеты книги отражены в учебных пособиях, польских и российских. К сожалению, из обзора Катажины Блаховской очень мало можно узнать о преподавании истории в современной польской школе, а статья Александра Ильича Филюшкина лаконична до такой степени, что это скорее заметка – меньше 4 страниц.
А ведь тема благодатная.
Считается, что всякая эпоха выражает себя в интерпретациях классики, но, конечно же, и в том, как прошлое подается детям.
Notes:
- Зентара Б. Старая Россия. Демократия и деспотизм. Великий Новгород, 2015, гл. V Великая метаморфоза. ↩
- «Запад на протяжении столетий нес миру свой «мессианский» проект крестовыми походами и военными интервенциями. Сегодня он делает то же самое при помощи глобализации и «цветных революций». Но этот натиск всегда разбивался о Россию, обладающую своей корневой системой, о евразийскую цивилизацию — носительницу другого, альтернативного проекта». ↩

