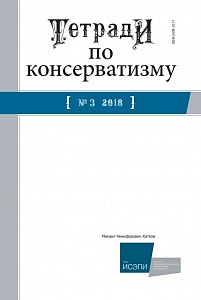 РI благодарит редакцию журнала «Тетради по консерватизму» за любезное разрешение разместить на нашем портале несколько текстов из последнего – № 3 за 2018 год – выпуска издания, посвященного творчеству выдающегося русского консервативного публициста XIX века Михаила Никифоровича Каткова. Как сообщает главный редактор журнала Родион Михайлов в предуведомлении к номеру: «Фонд ИСЭПИ приурочил этот выпуск своего альманаха к 200-летию рождения славного не только публициста, литературного критика и издателя, как принято считать, но и политического философа, отца русского общественного мнения консервативного толка, а возможно и родоначальника русской политической журналистики. Об этих не столь широко известных гранях Михаила Каткова подробно повествуют 33 автора, давшие свои очерки о славном деятеле, влиявшем на умы нескольких поколений интеллектуальной публики, а также, выражаясь современным языком, политического класса, впрочем – и лично на двух царей: Александра II и Александра III, внимательно читавших Каткова как в обзорах прессы, так и непосредственно в “Московских ведомостях”».
РI благодарит редакцию журнала «Тетради по консерватизму» за любезное разрешение разместить на нашем портале несколько текстов из последнего – № 3 за 2018 год – выпуска издания, посвященного творчеству выдающегося русского консервативного публициста XIX века Михаила Никифоровича Каткова. Как сообщает главный редактор журнала Родион Михайлов в предуведомлении к номеру: «Фонд ИСЭПИ приурочил этот выпуск своего альманаха к 200-летию рождения славного не только публициста, литературного критика и издателя, как принято считать, но и политического философа, отца русского общественного мнения консервативного толка, а возможно и родоначальника русской политической журналистики. Об этих не столь широко известных гранях Михаила Каткова подробно повествуют 33 автора, давшие свои очерки о славном деятеле, влиявшем на умы нескольких поколений интеллектуальной публики, а также, выражаясь современным языком, политического класса, впрочем – и лично на двух царей: Александра II и Александра III, внимательно читавших Каткова как в обзорах прессы, так и непосредственно в “Московских ведомостях”».
Действительно, среди авторов данного номера практически все самые известные отечественные историки русской общественной мысли XIX века, в том числе постоянные авторы сайта «Русская idea»: Ольга Фетисенко, Николай Котрелев, Дмитрий Бадалян, Александр Котов, Игорь Лукоянов, Александр Полунов и др. Мы отобрали для публикации два материала из этого номера: один из них принадлежит перу историка славянофильства, старшего научного сотрудника Academia Kantiana ИГН БФУ имени И. Канта, доцента ИГН БФУ имени И. Канта Андрея Тесли, автора биографии Ивана Аксакова «Последний из “отцов”»» и других замечательных исследований. В своем новом тексте Андрей Тесля рассказывает об истоках расхождения бюрократической и общественной разновидностей национализма и консерватизма, представленных в отечественной политической мысли фигурами Михаила Каткова и Ивана Аксакова.

Михаил Никифорович Катков (1818–1887) и Иван Сергеевич Аксаков (1823–1886) – наиболее яркие, известные и, что самое важное, влиятельные публицисты 1860–1880-х годов, условно относимые к консервативному лагерю. Условность этого отнесения связана как со сложностью их собственных позиций, так и со значительной идеологической эволюцией, проделанной каждым из них за годы активной публицистической деятельности. Впрочем, в случае с Катковым с 1856 года, когда он принимается издавать «Русский вестник», и вплоть до его кончины в 1887 году, говорить об изменении в целом консервативных воззрений автора не приходится. Эволюция наблюдается скорее в двух плоскостях – в том, где и как именно видит и находит Катков «охранительные начала», как конкретизирует свой консервативный взгляд, а также в изменениях, происходящих как в русской политике, так и в русской общественной мысли.
Если характеризовать изменение воззрений Каткова предельно кратко, то они состоят в переходе от свойственной многим в первые годы царствования Александра II надежде на «общество» и «общественное развитие» к «государственничеству», под которым в случае Каткова приходится понимать сочетание двух тезисов, непосредственно не связанных друг с другом:
– во-первых, признание и провозглашение ценности государственного начала, связанное с осознанием его хрупкости и необходимости целенаправленно его защищать и поддерживать;
– во-вторых, с видением именно в государстве основного агента и, что принципиально, инициатора перемен.
Для Аксакова движение было гораздо более существенным. Если Катков мигрировал от консервативного «англоманства» второй половины 1850-х к ориентированному сначала на французский, а затем в значительной степени на германский опыт консервативному государственничеству, при этом в его увлечении проектами Алексея Пазухина не трудно увидеть отзвук тридцатилетней давности восхищений английскими шерифами и устройством самоуправления в графствах, то Аксаков перешел от во многом критической позиции по отношению к славянофильству, свойственной ему в 1850-х годах, не только к полному принятию славянофильского видения, но и – под влиянием разочарования в русском обществе 1860–1870-х годов – во многом к усилению консервативной составляющей своих взглядов и в 1880-х годах – к принятию необходимости государственного вмешательства во многих из тех областей, где он это исключал и отрицал двумя десятилетиями ранее.

Формулируя предельно схематично, Аксакова и Каткова как в 1860-х, так и в 1880-х, разделяло то же самое, что проводило между ними границу и в конце 1850-х. Аксаков был и даже стал в большей мере «славянофилом», чем являлся таковым в 1850-х. Катков был и остался «западником», каковым и являлся со времен кружка Станкевича. Спор между ними определялся этой, уже утратившей свое непосредственное значение к 1850-м годам, но значимой в плане исходных определений противоположностью.
Объединяла их общая националистическая повестка, разграничивало принципиально различное представление о русской нации, о критериях включения/исключения из национального сообщества и о том, каким должно быть русское государство.
К середине 1860-х годов имена Каткова и Аксакова уже нередко упоминались рядом, через запятую, как выразителей если не общей, то достаточно близких позиций. Так, А.В. Никитенко, профессор Санкт-Петербургского университета и член Главного управления по делам печати при Министерстве внутренних дел, записывал в дневнике 29 сентября 1864 года: «Катков и Аксаков считают себя настоящими опекунами русского народа. К Петербургу они питают ненависть и презрение и его правительственное значение считают чистой узурпацией. Стоит только жить в Петербурге, чтобы, по их мнению, потерять всякое патриотическое чувство к России. Тот не патриот, кто не орет, не беснуется, не ломает стульев и столов» [11, с. 465].
Дальнейшее движение репутаций не менее любопытно. Если Аксаков в начале 1860-х только делается известен русскому обществу, то для Каткова это период наивысшего общественного признания – с годами в глазах публики он все в большей степени будет восприниматься как «официоз», и его имя для многих станет ругательным, тогда как Аксаков не только сохранит, но и упрочит славу честного публициста. Примечательно, что в 1870-х годах именно апеллируя к честности публициста, будет вести с ним полемику и упрекать в измене собственным принципам Михаил Драгоманов – аргумент, практически непредставимый в публичной полемике с Катковым.
Для различия позиций Каткова и Аксакова характерна их полемика с Александром Герценом в 1862–1863 годах. Катков стал первым в пределах Российской империи публицистом, кому было позволено в печати упомянуть имя Герцена. После долгой истории «подразумеваемой» публичной полемики без называния имен Катков в № 6 «Русского вестника» за 1862 год, перепечатав из «Колокола» герценовское «Письмо гг. Каткову и Леонтьеву», напрямую адресуется к Герцену, обличая его как «бойкого остряка и кривляку». Ему не нравится «пророческий тон» статей лондонского эмигранта, он обличает его «социалистические бредни с того берега» и т. д. Показательна ближайшая реакция Аксакова на статью Каткова – 25 июля 1862 года он пишет Михаилу Погодину:
«Катков неправ во многом относительно Герцена: все-таки это благороднейшее и симпатичное лицо; Катков груб и дерзок донельзя. Но во многом он и прав: так выходит, и потому статья для Герцена убийственна. На месте Каткова следовало бы однако ж, нападая на Герцена, дать туза два-три и правительству, чтоб оно не слишком радовалось низвержению своего обличителя» [цит. по: 4, с. 190].
В 1863 году, в ситуации польского восстания, Аксаков сам выступит публично против Герцена – однако и теперь, в третьем «Письме Касьянова», он отграничит Михаила Бакунина от Герцена, утверждая: «Конечно, Герцен не действует заодно с Бакуниным и, вероятно не решится, как он, навести ружейное дуло на русского солдата, но он солидарен с Бакуниным, он не отрекся от него <…>» [1, с. 205]. И далее:
«Но знаете? Вы назовете меня сумасбродом, поэтом, но мне все сдается, что Герцен не вынесет этого противоречия, что ему не удастся заглушить свою русскую совесть и что когда-нибудь, в одно прекрасное утро, он поступит совершенно по-русски. <…> Стоскуется русский человек по правде, надоест ему ложь, опротивеет зло, – и восстановляет он правду наказанием и искуплением! Что-нибудь подобное, верьте мне, случится и с Герценом. Теперь, может быть, он еще будет потешаться над моими словами (а еще более станут глумиться над ними ваши петербургские весельчаки), – но как бы не смеялся Герцен, а слова мои врежутся в его память… Пусть бы только перестал он губить нашу несчастную русскую молодежь, пусть бы внушал он ей истинное уважение к народу, а не деспотизм демократов, считающих себя вправе издеваться над невежеством народа обманами и подлогами!» [1, с. 206–207].
Показательно, что и в начале 1880-х Герцен оставался для Аксакова значимым и важным персонажем, отнюдь не характеризуемым простыми и однозначными суждениями по типу публично провозглашаемых Катковым. Так, в 1882 году Аксаков писал о Герцене: его «жизнь и деятельность находились в постоянном противоречии с его мыслью, подчас озаряемою блистательными откровениями истины» [1, с. 330]. Не вдаваясь в подробности отношения к Герцену со стороны второго поколения славянофилов в целом и Аксакова в частности [см. 8, 18], обратим внимание на ключевой момент в различии публичных позиций Каткова и Аксакова, явственно видный в реакции на антигерценовское выступление Каткова летом 1862 года.
Для Аксакова было принципиально – в рамках его концепции «общества» [см. 19] – дистанцироваться от власти, поскольку сам публицистический голос мыслился им как «неполитический». Собственно, эта позиция оставалась неизменной на протяжении всей публичной деятельности Аксакова. Если Катков стремился стать «голосом власти» в том смысле, чтобы в пределе определять ее действия, и никоим образом не старался «растождествиться» с ней, скорее напротив – из этой позиции претендуя в том числе и на критику правительства (то есть совпадая не с «властью» в подчиненном смысле, а с самой «верховной властью»), то в концепции Аксакова именно независимость от власти была необходимым условием «нравственной силы», то есть возможности иметь влияние.
В указанном отношении показательна реакция Каткова и Аксакова на польское восстание 1863 года – если Катков взял на себя смелость занять решительную позицию и стать выразителем общественного мнения, патриотического подъема, решительно выступая против мятежников и не только одобряя, но и требуя самых решительных мер (и в связи с этим обрушившись с критикой действий властей Царства Польского, то есть фактически брата императора, великого князя Константина Николаевича, в то время бывшего наместником Царства), то Аксаков замолчал, поскольку его передовицы не пропускались цензурой, – молчание оказалось для него более приемлемой формой действия, чем одностороннее говорение.
Поскольку позиция Аксакова по польскому вопросу не могла быть высказана на тот момент по цензурным условиям вполне откровенно (а заключалась она в одновременном утверждении «русских прав» на Западный край – и утверждении прав «польской народности» на политическую независимость), то ограниченное, неполное высказывание представлялось ему невозможным – как подлежащее неверному истолкованию в наличной ситуации.
Собственно, и объединяло, и одновременно разграничивало Каткова и Аксакова то обстоятельство, что они оба были идеологами русского национализма. Осознанная националистическая повестка отграничивала их от массы других изданий.
В первые годы издания «Дня» Аксаков избегал прямого столкновения с Катковым – отчетливое и ясное отграничение своей позиции от катковской будет сделано только в статьях 1864 года «Где органическая сила России?» и «Еще о лженародности». Примечательно, что и в первом из названных текстов Аксаков уйдет от прямого столкновения с Катковым, избрав в качестве основного оппонента петербургские «Биржевые ведомости».
Конкретным поводом для первой статьи становится спор о возможности быть «Русским Моисеева закона» [1, с. 255] или, выходя на принципиальный уровень, о возможности «выделить идею народной (православной) веры из идеи русской народности» [1, с. 255]. Тем самым в центре оказывается ключевой вопрос – о том, как именно конструируется «русскость», что должно выступать в качестве базового критерия идентичности.
Для Аксакова характерно подчеркивание, что вплоть до петровского поворота имперская экспансия России приводила к эффективной ассимиляции инородцев, – так, Казань, взятая войсками Ивана Грозного, спустя шестьдесят лет становится одним из центров русского народного подъема в Смуту. И, напротив, с петровского времени империя, расширяясь, оказывается, на его взгляд, весьма неэффективна как ассимилирующая среда. Предсказуемым образом, причину такого различия Аксаков видит в разрыве с «народом».
Катковское видение национального предполагает две составляющие – политическое единство и единство культурное, в первую очередь – языковое. Именно поэтому со стороны Каткова с 1862 года и особенно после польского восстания встречают, с одной стороны, одобрение и поддержку идеи перевода еврейского богослужения на русский язык, преподавания в католических, лютеранских или еврейских школах на русском, а с другой – он демонстрирует предельно жесткую реакцию в отношении украинофильских стремлений вести начальное образование на украинском. Иными словами, в логике Каткова нет никакого противоречия в формулировках «русские Моисеева» или «русские лютеранского закона», равно как и в наличии «русских дворян Остзейского края» (последнее определение принадлежит газете «Весть», и вызвало со стороны Аксакова взрыв негодования [см. 1, с. 322]).
Напряжение, которое возникает в рамках катковского понимания национального, связано с возможностью «русских католического закона», но именно проблематика католицизма ярко демонстрирует модерный характер катковского подхода. В логике национального государства, обладающего суверенитетом, то есть верховной властью на своей территории, невозможно вполне принять принцип, отстаиваемый католической церковью, создающей внегосударственное правовое пространство. Здесь можно вспомнить известный тезис Александра Кожева, что в национальном государстве не может быть терпима коммунистическая партия – коммунистическая идеология находится с таким государством в непримиримом противоречии, как и католическая доктрина, но острота противостояния с последней в итоге нашла свое примирение на практике, в компромиссах и непоследовательности – в той мере, в какой доктринальные положения перестали иметь определяющее значение для действий групп и индивидов в рамках процесса секуляризации. В непосредственной связи с этим тезисом лежат разнообразные планы как властей, так и добровольных энтузиастов 1860-х годов об образовании «российской католической церкви», самостоятельной иерархии и других способах обойти папскую супрематию.
С практической точки зрения, однако, гораздо большую роль играли усилия расторгнуть связь между «польскостью» и католицизмом, в частности, разнообразные меры, связанные с языками обучения в католических школах, языком проповеди и т.п. [см. 7].
Напротив, в логике Аксакова устанавливается, опираясь на раннемодерную ситуацию, практически прямая связь между национальной и конфессиональной идентичностью, и оттого идея перевода католической проповеди на русский язык встречает у него принципиальное отторжение, поскольку она осмысляется как однозначное орудие не только католической пропаганды, но и полонизации – подобно тому, как распространение православия среди «инородцев» через перевод Священного Писания и проповедь на местных языках оказывается орудием русификации (в связи с чем в дальнейшем деятельность Николая Ильминского как для него, так и для Константина Победоносцева будет наилучшим примером расширения «русского»).
Обращаясь к ситуации Западного края, Аксаков пишет: там «различие вероисповеданий служит единственным основанием для определения национальности лиц, несмотря на их общее происхождение. Это до такой степени верно, что родные братья и сестры, принадлежа к различным вероисповеданиям, принадлежат в то же время и к различным национальностям» [1, с. 255].
Существенной проблемой для славянофильского проекта, предполагающего конвертацию конфессиональной идентичности в национальную [подробнее см. 16, гл. 6], которую акцентировали издания Каткова и их союзники, заключалась в старообрядчестве. Здесь Аксаков пытается выйти из затруднения прежде всего при помощи указания, что «старообрядцы-то и именуют себя православными по преимуществу», после чего переходит к гораздо более сильному тезису, утверждая, «что они действительно православные и только вследствие разных невежественных недоразумений отвергают общение не с православными вообще, а с внешним проявлением православия в России со времен патриарха Никона» [1, с. 258]. Слабость этой аргументации совершенно очевидна, и, стремясь укрепить собственную позицию, Аксаков далее выдвигает уже другие тезисы:
«Старообрядцы не еретики, а сектаторы, – народная история их одна с прочими русскими; они воспитались от единой духовной трапезы; их отделило от нас излишнее и суровое отношение к древней обрядовой стороне православия, но они сохраняют, по крайней мере, в принципе, полную верность древнему благочестию и духовному историческому началу русской народности. Что же касается до молокан, хлыстов, духоборцев, то они настолько русские, насколько, во-первых, личное их уклонение от общего вероисповедания не заглушило в них непосредственного чувства русской народности, общего им со всем остальным народом и выработанного веками его долгой исторической православной жизни; во-вторых, насколько их религиозные верования нейдут в разрез с жизненными и гражданскими стремлениями остальной массы русских, – и наконец, насколько они сами последовательны в своих религиозных убеждениях и в жизни» [1, с. 258].
Реконструируя логику Аксакова, можно, на наш взгляд, свести ее к следующей ключевой цепочке рассуждений:
– во-первых, православие есть основной элемент русской народности, определяющий идеалы и во многом выражающийся в конкретных формах народной жизни;
– во-вторых, можно оставаться «русским», перестав быть православным – в «сектаторстве» или собственно сектантстве, – в той мере, в какой сохраняешь связь с исторически выработанной «жизнью», не утрачиваешь «непосредственного чувства русской народности». Эти варианты являются либо крайними формами, либо уклонениями от того, что составляет основу «русской народности», но не порывают с ней связи окончательно;
– в-третьих, напротив, иноверие предполагает другие идеалы, другой строй жизни – тем самым, оставаясь иноверным, войти в «русскую народность» невозможно, тогда как целый ряд вариантов, уклоняющихся от православия, остаются в составе «русской народности».
В данном случае видно, что трактовка «православия» во все большей степени начинает склоняться в сторону «русского православия» как исторической культурной традиции, и тем самым противоречие между катковским и аксаковским пониманием «русской нации» в плане критерия идентичности предстает уже не как альтернатива культурного/религиозного, но как разный объем и содержание «культурного» (и при этом гораздо большая эксклюзивность «русской нации» у Аксакова в сравнении с Катковым, поскольку включение извне предполагает непременно смену конфессиональной принадлежности).
Исходная проблематика второго текста – ответ на недоумение, отчего со стороны славянофильской газеты не вызывает одобрения «русский патриотизм», столь расцветший в ситуации 1863 года и символом которого стали «Московские ведомости» Каткова. Николай Страхов писал, оглядываясь на истекшие немногие месяцы, о торжестве славянофильства и о том, что идеи, не так давно осмеиваемые, незаметно сделались достоянием публики [см. 5]. Аксаков и начинает свой текст с воспроизводства стереотипов:
«Восхищаться каждым проявлением “русского патриотизма”, умиляться при словах “народ”, “земство”, “православные”, кем бы и когда бы они ни были произнесены, при каждом намеке на древнюю Русь, при каждом внешнем признаке русского национального чувства и нежной симпатии к “русскому мужичку”, приходить в ярый восторг – это, казалось бы, по нашей части! Так, по крайней мере, давно порешила за нас публика, и русские карикатуристы не иначе изображают так называемого славянофила, как в образе мужичища с усищами, с бородищей, с кулачищем, в сапожищах, в зипунище, с непременными атрибутами капусты, щей, кваса и т.п.» [1, с. 268].
В этом тексте основной тезис заключается в отождествлении «охранительного элемента» с «народом» в смысле противопоставления дворянству, аристократии и т.д. – и в отрицании за последними права говорить от имени, от лица народа:
«Но разрыва с народом никакого нет, говорят нам, нет фактов этого разрыва, нет доказательств недоверия со стороны народа, а потому и хлопотать о приобретении его доверия нечего. <…>
Пусть <…> оставят народ в покое эти непризванные опекуны! <…> Пусть отойдут от него прочь лицемеры и фарисеи народности, которые, под видом народности, хотят привить к могучему древу народной жизни свои узкие теории, взлелеянные не на нашей земле и не под нашим солнцем, и навязать ему, во имя свободы, тесноту западного социального устройства. Они могут говорить от имени нации, могут создать внешний вид политической организации, но это будет лженарод и лженародность: народ будет не с ними…» [1, с. 274, 275].
Характеризуя этот аспект аксаковских воззрений, Василий Розанов в период своего расставания со славянофильским петербургским кружком писал о «напыщенном народничестве» [цит. по: 13, с. 46].
И тем не менее при всей принципиальной разнице воззрений Каткова и Аксакова 1860-х годов между ними обнаруживалась существенная близость по многим позициям, что и обеспечивало не лишенное конфликтов, но взаимодействие по целому ряду вопросов как в 1860-х, так и в 1880-х годах.
Отметим лишь одно из показательных сближений: хорошо известно, что в ситуации кризиса, вызванного польским восстанием 1863 года, Катков выступал за введение общеимперского представительства [см., в частности, 20]. Позиция основных представителей славянофильства по этому вопросу тоже достаточно хорошо известна – так, Юрий Самарин в 1861 году выступал против представительства (конституции), видя в этом угрозу для народного дела, поскольку представительство в наличных условиях означало бы сосредоточение власти в руках высших слоев, тогда как неограниченная монархия оказывалась способна проводить реформы, невозможные при представительстве [см.: 14, с. 12; в этом аспекте 3]. Однако в 1863 году Аксаков со своей стороны пытается публично заявить об актуальности Земского собора, посвятив этому значительную часть четвертого, не пропущенного цензурой «Письма Касьянова» (впервые опубликовано в 1887 году в посмертном собрании сочинений). При этом если в текстах, которые по меньшей мере надеется опубликовать, Аксаков настойчиво противопоставляет «земский собор» и «парламент», то в письме к Никите Гилярову-Платонову от 27 февраля 1863 года он размышляет и о принципиально иной постановке вопроса:
«Я и сам прихожу к мысли о “Думе”, не только для разрешения Польского вопроса, но и для разрешения всяческих вопросов. Это единственное средство, которое нам остается. У меня сложилась целая статья об этом предмете, но я не писал ее, потому что ее не пропустят. Дело в том, что то нравственное равновесие, которое существовало в До-Петровской Руси между Правительством и Народом, уже не существует; то единство и общение между собою, которые были в древней Руси, – Царя, общества и народа, – нарушены; организм лишился цельности. Народ, земство хранит и до сих пор старые отношения к Власти, но Власть уже не та. Поэтому и выходит постоянный диссонанс, постоянное недоразумение. Оказывается, что любовь, вера, чаяние народа относятся к какому-то историческому воспоминанию или к идеалу, но во всяком случае не к существующему явлению, не к реальности. Вообразите себе, что Православного Царя украли и на место его ночью посадили жида, а народ, сдуру, продолжает его считать православным, благоверным и вверяет его охране интересы православия. Русский народ, конечно, не согласился бы добровольно на неограниченную власть Татарского Хана и оградил бы от басурмана свою народность, по крайней мере. – Когда Русь призвала на престол Польского Королевича Владислава, то она предложила ему условия, – ибо считала, что у поляка-католика иная совесть, иная совесть у русского и православного. Теперешнее Правительство еще более чуждо нам, чем Владислав и Батый [выделено нами. – А.Т.]. Но что же вышло? Русский народ, относясь к власти по-прежнему, как будто с XVII века не произошло никаких перемен, предоставил неограниченную власть – немцам; неограниченный произвол – немецкой бюрократии; это никогда не входило в его расчеты… Теперь последствия из этого можете сами вывести» [10, с. 235–236].
И тем не менее между Катковым и Аксаковым существовало фундаментальное расхождение, которое сохранялось вплоть до конца их публицистической деятельности: если для Каткова на переднем плане были вопросы «реальной политики» и вопросы государства, для которых моральные соображения явно второстепенны, если за ними вообще признается значение, то для Аксакова имела силу «славянофильская утопия», «патриархально-дворянская», как характеризовали ее Анджей Валицкий (1964) и Ю.З. Янковский (1981), со стремлением к освобождению от или минимизации власти бюрократии, с поставлением в центр внимания общества, понимаемого как нравственная сила.
Выразительна в этом плане реакция Аксакова на настроения в публике в конце 1863 года – периода высшей славы Каткова. 11 декабря 1863 года он писал Н.С. Соханской (известной в литературе под псевдонимом «Кохановская»): «Прескверное современное настроение общества, при всем его пресловутом патриотизме. Или вернее сказать – много грубого и глупого в этом патриотизме: это какой-то инстинкт силы, проявление натуры большого государства, но мало разума, мало истинной любви к родной земле» [15, с. 215]. В конце концов, Катков исходил из примата государства и его задач. Аксаков же не только наследовал общеславянофильские взгляды, но во многом оказывался проникнут, особенно в первой половине 1860-х, идеями своего покойного брата, Константина Сергеевича, по словам Валицкого – «утописта наиболее бескомпромиссного, пытавшегося очистить славянофильскую утопию от дворянских элементов, превращая ее в своего рода христианский популизм» и близкого к своеобразному анархизму [22, ch. 6].
Публицистика Ивана Аксакова и была поиском компромисса между идеальными представлениями и вызовами политической реальности.
Литература
- Аксаков И.С. Отчего так нелегко живется в России? / Сост., вступ. ст. В.Н. Грекова; подгот. текста и примеч. В.Н. Грекова, Н.А. Смирновой. М.: РОССПЭН, 2002.
- Анненков П.В. Письма к И.С. Тургеневу: в 2 кн. Кн. 2: 1875–1883 / Изд. подгот. Н.Н. Мостовая, Н.Г. Жекулин. СПб.: Наука, 2005.
- Бадалян Д.А. Статьи И.С. Аксакова о дворянстве в газете «День» (декабрь 1861 г. – февраль 1862 г.) // «День» И.С. Аксакова: История славянофильской газеты. Исследования. Материалы. Постатейная роспись / Под общ. ред. Н.Н. Вихровой, А.П. Дмитриева и Б.Ф. Егорова. СПб.: Росток, 2017. Серия «Славянофильский архив». Кн. 5. С. 39–51.
- Барусков Н.П. Жизнь и труды М.П. Погодина. Т. XIX. СПб., 1905.
- Грибунин В.В., Тесля А.А. Философские взгляды Н.Н. Страхова 1860–1870-х годов и славянофильство // Вестник Тихоокеанского государственного университета. 2011. № 1. С. 217–222.
- Джераси Р. Окно на Восток: империя, ориентализм, нация и религия в России / Авториз. пер. с англ. В. Гончарова. М.: Новое литературное обозрение, 2013.
- Долбилов М.Д. Русский край, чужая вера: Этноконфессиональная политика империи в Литве и Белоруссии при Александре II. М.: Новое литературное обозрение, 2010.
- Емельянов Е.П., Тесля А.А. «Единственный голос, к которому прислушивается правительство» // Социологическое обозрение. 2012. Т. 11. № 3. С. 45–59.
- Котов А.Э. «Царский путь» Михаила Каткова: Идеология бюрократического национализма в политической публицистике 1860–1890-х годов / Науч. ред. С.К. Лебедев. СПб.: Владимир Даль, 2016.
- Люди русской правды: Переписка И.С. Аксакова с государственными и общественными деятелями (1855–1886): Тексты. Комментарии. Адресаты / Под общ. ред. А.П. Дмитриева и Б.Ф. Егорова. СПб.: Росток, 2018. Серия «Славянофильский архив». Кн. 4.
- Никитенко А.В. Дневник: в 3 т. Т. 2: 1858–1865 / Подгот. текста и примеч. И.Я. Айзенштока. М.: Государственное издательство художественной литературы, 1955.
- Птушкина И.Г., Гурвич-Лищинер С.Д., сост. Летопись жизни и творчества А.И. Герцена. 1859 – июнь 1864 / Отв. ред. С.Д. Гурвич-Лищинер, И.Г. Птушкина. М.: Наука, 1983.
- Розановская энциклопедия / Сост. и гл. ред. А.Н. Николюкин. М.: РОССПЭН, 2008.
- Самарин Ю.Ф. Избранные произведения / Сост., вступ. ст. Н.И. Цимбаева; примеч. Н.А. Цимбаева и Н.А. Смирновой. М.: РОССПЭН, 1996.
- Семья Аксаковых и Н.С. Соханская (Кохановская): Переписка (1858–1884) / Сост., вступ. ст., подгот. текста и коммент. О.Л. Фетисенко. СПб.: Изд-во «Пушкинский Дом», 2018. Серия: «Славянофильский архив». Кн. IV.
- Тесля А.А. «Истинно русские люди»: История русского национализма: [Курс лекций]. М.: РИПОЛ классик, 2019.
- Тесля А.А. «Последний из “отцов”»: Биография Ивана Аксакова. СПб.: Владимир Даль, 2015.
- Тесля А.А. Герцен и славянофилы // Социологическое обозрение. 2013. Т. 12, № 1. С. 62–85.
- Тесля А.А. Концепция общества, народа и государства И.С. Аксакова (Первая половина 1860-х годов) // Полития. Анализ. Хроника. Прогноз: Журнал политической философии и социологии политики. 2013. № 1. С. 65–79.
- Тесля А.А. «Польский вопрос» в передовицах М.Н. Каткова в «Московских Ведомостях» в 1863 г. // Ученые заметки ТОГУ. 2011. Т. 2, № 2. С. 86–97.
- Янковский Ю.З. Патриархально-дворянская утопия: Страница русской общественно-литературной мысли 1840–1850-х годов. М.: Художественная литература, 1981.
- Walicki A. The Slavophile Controversy: History of a Conservative Utopia in Nineteenth-Century Russian Thought / Transl. by H. Andrews-Rusiecka. New York: Oxford University Press, 1975 [1964].

